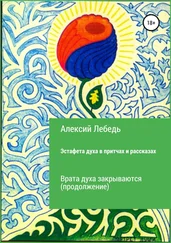Ефим Бершин Маски Духа
Здесь есть возможность читать онлайн «Ефим Бершин Маски Духа» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Книги. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ефим Бершин Маски Духа
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4.33 / 5. Голосов: 3
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ефим Бершин Маски Духа: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ефим Бершин Маски Духа»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ефим Бершин Маски Духа — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ефим Бершин Маски Духа», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— Ну что мы тут сидим? Что мы тут сидим, если уже два часа? Все нормальные люди давно обедают, а мы останемся голодными. Я хочу есть.
— Но у меня ничего нет. Хотите леденец?
— Не хочу. Я леденцов даже дома не ем. Я хочу обедать.
— Где я вам возьму обед? — начинаю я раздражаться.
— Ах так! Тогда я больше не буду отвечать на вопросы.
Опять я виноват! Как будто это я ему вопросы задаю.
Тут вернулась журналистка и задала мне убийственный по силе и глубине вопрос:
— Ваше жизненное кредо?
— Кредо мое такое, — отвечаю, — поэта должны кормить. Потому что он один, живя в космической тоске, отдувается за все человечество.
И что вы думаете? Она тут же убежала накрывать на стол. Не прошло и двадцати минут, как Левитанский с тем же величественным видом и с отсутствующим космическим лицом уплетал пельмени, со знанием дела орудуя горчичкой и перчиком, запивая холодным томатным соком и ерзая глазами по стеклам буфета: не сверкнет ли где желанная шоколадная обертка.
А через неделю в газете вышло огромное интервью — на целый разворот. Оно называлось: “Поэта должны кормить”.
VIII. Бином Рабиновича
Или не должны кормить. Польза-то от поэтов мало какая бывает. Они вон плодятся, как мыши на даче, шуршат, попискивают — вот и весь прок. У Лиснянской на даче так-то мышь завелась — так чем мы ее только не травили! И битое стекло подкладывали, и дуст, и снотворное в мусорное ведро подсыпали. А она и не дохнет, и не засыпает. Только жрет. С другой стороны, и от животных в зоопарке тоже не больно-то много пользы, а все ж таки народ ходит поглазеть, деньги платит. Может, и поэтов туда поместить — в специальный вольер? Они же у львов мясо отбирать не станут, а выручку кой-какую, глядишь, и дадут.
В общем, хлопот с ними много. Особенно когда, как в детском саду, начинают ростом мериться. Кто выше. Чтобы, значит, как на уроке физкультуры, в строю вперед всех встать. Встречаю как-то поэта Евтушенко, Евгения, а он мне прямо в лоб:
— Скажи, кто сегодня первый поэт России? А то некоторые уже поговаривают, что Бахыт Кенжеев. — И так на меня проникновенно смотрит, словно боится, чтобы я не ошибся ответом.
Ну не смешно? Какой из Кенжеева поэт? Он же типичный казах. Я ему при встречах всегда так и говорю:
— Никакой ты не поэт, Бахыт, потому что ты казах. А казахи быть поэтами не могут — у них нет ассоциативного мышления. Я вообще удивляюсь, как ты при полном отсутствии ассоциативного мышления еще умудряешься по утрам водку пить.
— Э-э, нет! — возражает Бахыт. — Казахи как раз все поэты. Потому что у них кумыс есть. А вот кому недоступна поэзия — так это евреям. Потому что евреи никогда не знали, что такое книга. Они даже грамоте неправильно обучены и пишут не так, как все люди, а справа — налево.
— Тогда я буду поэтом! — радостно потирает руки наш друг Виталик
Дмитриев. — Потому что я не казах и не еврей, а чистокровный поляк. На четверть.
Нечего и говорить, что все, кому доводится слушать наши дискуссии, непременно обвиняют нас в ксенофобии. А какая же это ксенофобия? Это правда. А кто говорит правду — всегда за нее страдает. Вот Дмитриев, например, пострадал. Он как-то по безденежью пристроился экскурсии по Петербургу водить. И водил. Подводит, например, группу к Михайловскому замку и повествует, как в этом замке Софья Перовская изменяла императору Александру I с императором Павлом. За что соответственно Александр Павла и задушил, что породило неизбежные реформы Сперанского, победу над Наполеоном и октябрьский переворот семнадцатого года. Ничего, слушали, кивали. Правда, после того, как Виталик сообщил, что первый камень в фундамент Адмиралтейства заложил небезызвестный Иван Калита, кто-то стукнул. И Виталика выгнали. Наверно, в группу затесался прозаик, о чем Дмитриев заранее предупрежден не был.
Он, конечно, странный этот Дмитриев, но друг хороший. Едем мы как-то еще по Ленинграду часов в двенадцать ночи. И вдруг ни с того ни с сего мне страшно захотелось выпить водки. Так бывает: не хотелось, не хотелось и вдруг захотелось. И что делать? А Дмитриев возьми да вспомни, что неподалеку живет одна из его любимых, которая ждет не дождется, когда он наконец заявится к ней на ночь глядя, чтобы, значит, совершить с ней обряд умопомрачения. И посему всегда держит наготове бутылку водки.
Ну подрулили. Он меня на перекрестке выставил, как светофор, а сам пошел. Любимая как его увидела — сразу давай таять. Счастье подвалило. Так и вертится вокруг него — и улыбки мастерит, и глазами моргает, и зад колесом состроила. А он бутылку хвать — и бежать. Потому что друзья важнее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ефим Бершин Маски Духа»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ефим Бершин Маски Духа» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ефим Бершин Маски Духа» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.





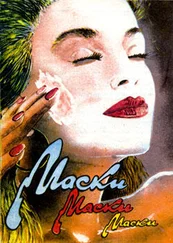
![Николай Метельский - Унесенный ветром - Меняя маски. Теряя маски. Чужие маски [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/414780/nikolaj-metelskij-unesennyj-vetrom-menyaya-maski-thumb.webp)