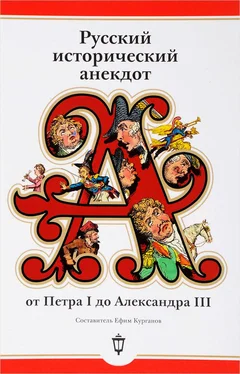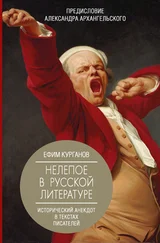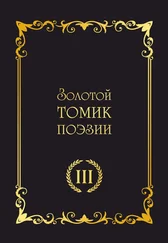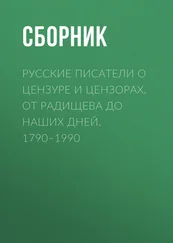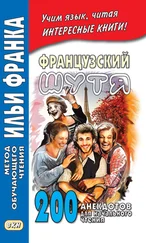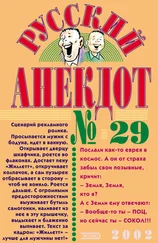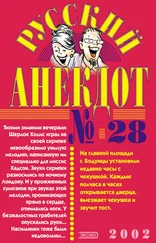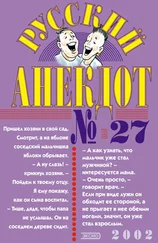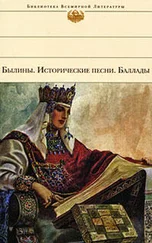В пушкинскую эпоху анекдот, пожалуй, пережил на русской почве высочайший свой расцвет. В самом деле, он запечатлевал целый срез дворянского быта, и при этом весьма значимый, поднимался до высокого литературного ряда (как рассказчики и собиратели анекдотов блистали А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, Ф. И. Тютчев, Н. В. Гоголь, Н. В. Кукольник и другие), непосредственно проникал в ткань художественных текстов и, наконец, чрезвычайно ценился как особый род исторического свидетельства.
Братья Гонкуры некогда образно заметили, что анекдот есть мелочная лавка истории. Сказано очень метко.
Анекдот всегда представляет частное событие, случай (безымянен ли он или связан с известным лицом – это в общежанровом плане принципиального значения не имеет), который оказывается барометром, указывая на «температуру» общества, выступая как показатель нравов.
В анекдоте в обязательном порядке должны соединиться внешняя точность (даже доскональность) и внутренняя значительность. Это сочетание как раз и обеспечивает роль анекдота как особого рода исторического документа, открывающего важное через мелкое, тенденцию – через деталь. В крупной идеологической конструкции, отличающейся внешними масштабами, в парадном портрете, поражающем великолепием, анекдот чувствует себя не очень уютно – он там часто неуместен. Но если важно показать жизнь общества изнутри, если необходимо высветить бытующие в нем привычки, представления, вкусы, а также скрытые стремления, то тут-то и не обойтись без анекдота, тут-то он и выступает на правах исторического свидетельства.
Причем и в фольклорном, и в литературном, историко-биографическом анекдоте на самом деле совершенно не важно, произошло ли в действительности то, о чем повествуется: не важно, что так было , а важно, что так могло быть.
Анекдот в первую очередь представляет интерес как живая, колоритная подробность, как показатель того, о чем же судачат в салоне, в дружеском кружке, на улице.
Можно ли полностью доверять анекдоту? Этому коварному жанру ни в коей степени не следует доверяться и принимать его порождения за чистую монету. Ценность анекдота в другом: он совершенно незаменимый помощник в том, чтобы воссоздать картину нравов – живую, искрометную, убедительную. Тут-то анекдот и получает права исторического свидетельства, своего рода документа и становится актуальным и даже незаменимым.
Встраиваясь в картину нравов, анекдот по-особому освещает ее, но и сам при этом начинает выглядеть чрезвычайно живо, убедительно, колоритно; иными словами, Он оживляет и одновременно оживает сам. Причем особенно важен анекдот при построении биографии.
Конечно, существуют биографии (в особенности официальные или героизированные), которые вполне могут обойтись без присутствия анекдота. Однако еще со времен античности (Плутарх, Диоген Лаэрцищ Светоний) анекдот стал подлинным украшением биографии, ее необходимым компонентом. Он являлся своего рода голограммой, ибо способствовал тому, дабы воссоздаваемую личность можно было предельно емко, выразительно, непосредственно ощутить как живую.
В России подробное знакомство с культурой анекдота произошло еще в XVII столетии. Тогда, в основном через польское посредничество, появились многочисленные рукописные сборнички так называемых фацеций (это разного рода истории, подчас забавные) из жизни греческих философов и римских императоров. Затем появились сборники апофегм – образцы все той же западной литературы анекдотического содержания, чуть более значительно переработанные, но подлинной самобытности там еще было мало.
Анекдот как самостоятельный литературный жанр стал утверждаться в России во второй половине XVIII века по модели французской рафинированной культуры. Переломным моментом стали эрмитажные собрания у императрицы Екатерины II, на которых появился и стал блистать обер-шталмейстер двора Лев Александрович Нарышкин. Этот знатный вельможа и одновременно простонародный балагур создал настоящую культуру анекдота. Он стал рассказчиком высочайшего класса (его устные новеллы представлены в настоящей коллекции). Собственно, с нарышкинских рассказов и острот и берет начало оригинальная русская анекдотическая традиция.
Однако настоящий расцвет жанра, его подлинный апогей пришелся, как уже говорилось, на пушкинскую эпоху. Для этого были свои причины.
Именно к середине 1820-х – началу 1830-х годов жанр русского анекдота, можно сказать, окончательно сложился, определились, выкристаллизовались его внутренние законы и тенденции, установился репертуар сюжетов, круг и основные типы рассказчиков. Кроме того, в пушкинскую эпоху анекдот уже не просто стал реальным и полноправным участником литературного процесса, но и начал осмысляться как достаточно важный и ценный фактор отечественной культуры, который в силу устного характера своего бытования может забыться и исчезнуть. Иначе говоря, явственно стала обозначаться тенденция к сохранению жанра в национальной памяти. Происходило это, однако, при обстоятельствах достаточно драматичных.
Читать дальше