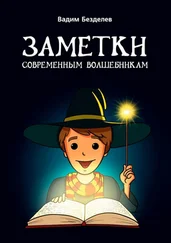2) максимально примитивизированной эротикой, основанной на тотальной объективации партнера. Пример:
Вопрос армянскому радио: в чем сходство между женщиной и грампластинкой?
Ответ: Поиграл — переверни, играй снова.
3) демонстративным же настаиванием на «личной свободе», праве на отстаивание собственных интересов без оглядки на интересы других, то есть с объективацией любого другого участника ситуации; в переводе на язык публичности это называется предельным эгоизмом и эгоцентризмом. Пример: Лежат мужик и баба в постели, и вдруг — ключ в двери. «Муж вернулся, прыгай в окно!» Мужик открывает окно (исполнитель отшатывается и испуганно оглядывается)’. «Так седьмой этаж!» — «Прыгай давай!» Мужик прыгает, расшибается. Баба выглядывает в окошко (исполнитель перегибается через воображаемый подоконник, изображает громкий театральный шепот и делает акцентированную двойную отмашку рукой в сторону): «А теперь отползай!.. Отползай!!!»
4) приписыванием другим участникам ситуации черт, наличие которых с точки зрения стайной этики унижает их и делает недостойными уважительного отношения. Это, прежде всего, черты феминные, черты, связанные с излишне эгоистическим поведением (как бы парадоксально это ни звучало в контексте предыдущего пункта), и, применительно к русской стайной культуре, — черты, связанные с демонстративной или скрытой мужской гомосексуальностью. Пример:
Лежит в постели Горький. Заходит Ленин, нагибается над ним, подтыкает одеяло и говорит (исполнитель миксует киношную ленинскую картавинку с манерной интонацией пассивного гомосексуалиста): «Ну кто ж назвал тебя Горьким, сладенький ты мой…»
Эффект усиливается еще и тем, что сама смоделированная в анекдоте ситуация отсылает к советскому — школьной канонической лениниане, где почетное место занимал почерпнутый из воспоминаний М. Ф. Андреевой эпизод, в котором Ленин лично проверял в лондонской гостинице, не влажные ли простыни постелили в номере, предназначенном для Горького.
5) «переводом» текста и, соответственно, стоящей за ним проективной ситуации с одного культурного кода, очевидным образом встроенного в систему доминирующих публичных дискурсов, на другой, приближенный к низовым/бытовым/субкультурным контекстам. Пример:
Стоит на горе Мальчиш-Кибальчиш, размахивает саблей и кричит (исполнитель делает «плакатное» выражение лица и декламирует с интонацией из детского спектакля на пионерском сборе): «Измена! Измена!» А под горой сидит Мальчиш-Плохиш, жрет печенье с вареньем и приговаривает (исполнитель переходит на задушевно-рассудительный тон из оттепельного «искреннего» фильма): «А меня что-то на хавчик пробило…»
Ключевое словосочетание из молодежного слэнга 1970-1990-х годов здесь остается за кадром: зритель должен сам осуществить процедуру перевода, тем самым радикально изменив смысл как первой реплики Мальчиша-Кибальчиша, так и всей ситуации. Понятием «на измене» («пробило на измену») обозначается состояние испуга, паники, растерянности, — тем самым Мальчиш-Кибальчиш из самозабвенного гайдаровского героя превращается в труса и паникера, потерявшего от страха голову, и противопоставляется Мальчишу-Плохишу уже не как предателю, а как вполне симпатичному персонажу, который даже в кризисной ситуации способен сохранять полное спокойствие и приверженность маленьким плотским радостям. Мультипликационный фильм Александры Снежко-Блоцкой «Сказка о Мальчише-Кибальчише» (1958), снятый в «плакатной» оттепельной манере, апеллирующей к искусству Революции через голову сталинской эстетики, и посвященный «славному ленинскому комсомолу», показывали по телевизору по нескольку раз в год, к каждой более или менее подходящей дате. Так что не ассоциироваться с официозным советским пафосом он просто не мог — и буквально взывал к анекдотической деконструкции.
О когнитивных основаниях ситуации рассказывания анекдота
Здесь и рождается анекдот как коммуникативный жанр, позволяющий деконструировать любой пафос. Механизм его ситуационно-коммуникативного воздействия, связанного с производством того, что мы привычно понимаем как юмор, предельно прост и был описан в самом общем виде еще в 1970-х годах Виктором Раскиным, одним из отцов-основателей «Международного общества по изучению юмора» и журнала Humor (с 1988 г.): «…humorous element is the result of a partial overlap of two (or more) different and in a sense opposite scripts which are all compatible (fully or partially) with the text carrying this element» [6] «…юмористическая составляющая представляет собой результат частичного наложения двух (или более) различных и в каком-то смысле противостоящих друг другу сценариев, каждый из которых совместим (полностью или частично) с текстом, несущим в себе данную составляющую» (Raskin V. Semantic Mechanisms of Humor / Proceedings of the Fifth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. Berkley University of California, 1979. P. 325). Здесь и далее перевод иноязычных цитат мой. — В. М.
. В зависимости от избранной исследовательской перспективы и от связанного с ней терминологического инструментария, здесь можно говорить о сценариях (скриптах) в том смысле, который развивается в лингвистике, теории коммуникации и теории искусственного интеллекта начиная со времен Сильвана Томкинса [7] См: Tomkins S., Izard С. Affect, Cognition, and Personality: Empirical Studies. New York: Springer, 1965.
, или о фреймах в социоантропологическом, гофмановском смысле слова [8] См.: Goffman Е. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Boston: Northeastern University Press, 1974.
, но общая картина происходящего останется примерно той же. В любом случае мы имеем дело с наложением двух или более интерпретативных систем, каждая из которых не противоречит предложенному проективному сюжету, — что приводит к моментальному сбою режимов инференции и к необходимости «включить» экстраординарные (неавтоматизированные, не привязанные к привычным сценариям) режимы оценки поступающей информации. Существует две основные группы быстрых реакций на подобный сбой, которые условно можно обозначить как связанные с испугом и связанные со смехом. Поскольку ситуация рассказывания анекдота с самого начала организуется как игровая, ориентированная прежде всего не на интерпретацию той актуальной ситуации, в которой пребывают исполнитель и его аудитория, а на оперирование «несерьезными» проективными реальностями, то реакции, связанные с испугом, как правило, нерелевантны — а вот реакции смеховые ситуативно вполне адекватны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
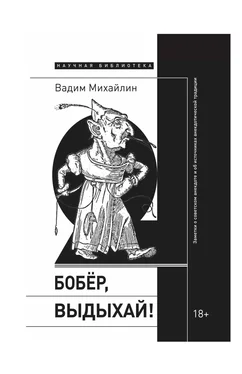

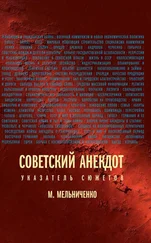


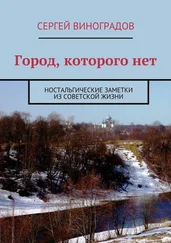
![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/403312/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918-thumb.webp)