1 ...7 8 9 11 12 13 ...89 Если свести воедино все перечисленные выше оговорки, станет понятно, что проект по формированию нового советского человека, опиравшийся в качестве одного из базовых своих оснований на подобного рода дискурс, был обречен изначально. Любой пьяный (то есть нарушающий этические обязательства перед единственно верным учением) парторг (то есть лицо, долженствующее здесь и сейчас выступать гарантом истинности дискурса в целом) на комсомольском собрании (то есть в том социальном пространстве, где должна происходить отбраковка всего неправильного и утверждение правильного) потенциально разрушал претензии этого дискурса на истинность и универсальность. В итоге система, рассчитанная на тотальное вовлечение всей человеческой массы в единое перспициированное пространство, тренировала каждого из людей, составляющих эту массу, в умении, противоположном самой сути проекта — мыслить одновременно на нескольких языках, каждый из которых является истинным применительно к конкретному уровню «считывания» наличной ситуации.
Впрочем, все перечисленные выше противоречия являлись таковыми только при условии восприятия советского дискурса (во всех его локальных и временных модификациях) всерьез — если человек действительно был готов видеть в нем адекватный инструмент описания актуальной реальности и построения непротиворечивых реальностей проективных. При том, что по факту советский дискурс выполнял совершенно другие задачи: он был манипулятивным механизмом, который позволял разнообразным и разнопорядковым советским элитам формировать ситуативно выгодные для них системы описания, нимало не считаясь ни с тем, насколько эти системы описания адекватны актуальной реальности, ни с тем, насколько они соотносятся с предшествующими версиями самих себя. Таким образом, реальное овладение советским дискурсом (и, соответственно, все связанные с этим бонусы, от попадания в ту или иную элитную группу до элементарного выживания) заключалось как раз в том, чтобы не принимать его как единую и универсальную систему описания реальности. И — насколько я могу судить — анекдот как коммуникативный жанр во многом обязан своей невероятной популярностью именно тому, что он выполнял специфические адаптивные функции. Существуя на границе между официальным дискурсом, грамотная и безопасная техника работы с которым предполагала сугубо инструментальное отношение к нему (и, следовательно, умение дистанцироваться от него и тонко регулировать режимы серьезности и несерьезности), и микрогрупповыми дискурсами, которые предлагали куда более адекватные режимы описания и которые именно по этой причине ни в коем случае нельзя было всерьез смешивать с официальным языком, анекдот, во-первых, тренировал техники остранения, а во-вторых, позволял опознавать среди участников коммуникации тех, с кем ты на одной волне, то есть в одинаковой мере владеешь этими техниками остранения.
Здесь же, по моему мнению, следует искать и суть различия между собственно советской и позднесоветской версиями жанра. В пределах большевистской, ранне- и позднесталинской, а также оттепельной культур «обслуживаемое» анекдотом умение остранять тоталитарный дискурс отнюдь не обязательно означало неприятие тех ценностей, которые стояли за этим дискурсом, — или даже просто не вполне серьезное к ним отношение. Очередная версия советского проекта вполне могла восприниматься — и воспринималась на достаточно массовом уровне — как адекватное описание некоего более или менее близкого будущего, в сравнении с которым несовершенное настоящее пребывает на правах акциденции и, следовательно, подлежит восприятию и описанию сразу в двух не совпадающих ракурсах. С точки зрения наличного положения дел, доминирующий дискурс и впрямь может выглядеть излишне пафосным и даже негодным для работы с описанием повседневности — поскольку, sub specie aeternitatis, повседневность и есть именно то, что с его помощью надлежит преодолеть. И в этой дискурсивной системе анекдот выполнял роль ситуативного игрового модификатора, позволяющего тренироваться в крайне значимом умении жить одновременно как минимум в двух режимах восприятия и описания реальности [16] Так же, как когда-то, в рамках игривой культуры древнегреческого симпосия, совмещение в «несерьезном» и «многоликом» симпосиастическом пространстве под пристальным взглядом Диониса разных моделей поведения и столкновение их между собой вовсе не означало несерьезного отношения ни к «официальной» (и по-своему ничуть не менее тоталитарной) гражданской культуре, ни к маргинальной культуре воинского мужского союза. Подробнее об этом см. в: Михайлин В. Ю. Древнегреческая «игривая» культура и европейская порнография новейшего времени // Неприкосновенный запас. 2003. № 3 (29). С. 85–92.
. Но когда последний — действенный с точки зрения социальной мобилизации на сколько-нибудь массовом уровне — советский проект потерпел крах, а властный дискурс перестал описывать что бы то ни было, кроме самого себя, и окончательно превратился в «красный шум», игра вступает в другую реальность, а вместе с этим — и в другой модус существования. Меняется та адаптивная стратегия, «участником» и инструментом которой был анекдот. Вместо отрезвляющей практики (ситуативно допустимого) поругания сакрального, за счет которой индивид приспосабливался к одновременному и раздельному владению разными культурными кодами, она превращалась в способ иронического приятия позднеимперской советской действительности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
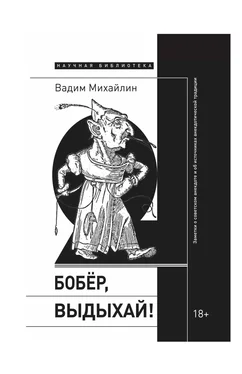





![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/403312/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918-thumb.webp)


