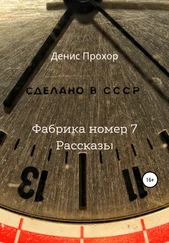– … Делайте, как хотите.
Остерман докушал свой гоголь-моголь, облизал серебряную ложечку и сказал спокойно.
– Имею на примете человека. Он справится с заданием. В этом не может быть сомнений.
Шлецер в камере.
В Петропавловской крепости этот каземат стоял отдельно от всех. Поросшее кустарником и пожухлой травой здание не привлекало внимание. Оно почти совсем срослось с окружающей местностью и издали напоминало бугорок или холмик. Именно к этому бугорку или холмику направлялся граф Генрих Бабицкий, помощник вице-канцлера. Его сопровождал хмурый и квадратный гвардейский полковник.
– Вы этого арестанта видели? – Бабицкий шагал широко, полковник едва поспевал за ним.
– Лично нет. Не имею права. Он у нас забытый.
– Это как?
– Такие, как он, без края сидят, на полном пансионе. Будто их и нет вовсе.
– Этот должен быть. Учтите, полковник, дело государственной важности. Если с ним что-то случилось, вас тоже могут вот так. Забыть.
– Скорей бы, ваша милость. – неожиданно с грустью вздохнул полковник. Он застучал в круглую дверь с решеткой.
– Ухватов, Ухватов. Выползай, давай, упырь вологодский.
Дверца люка отпала. Наружу, к немалому удивлению Бабицкого, вырвалась стая белоснежных голубей. Вслед за ними во все стороны посыпались крылатые херувимы с маленькими арфами.
– Кыш, кыш проклятые. Пригрелись тут.– на краю темного туннеля появилась косматая рожа. Сержант Ухватов метлой поддел упирающегося херувимчика и выбросил его на улицу.
– Делами занимайся… А вы кто такие? – спросил сержант.
– Секретарь вице-канцлера с предписанием. – сказал Бабицкий и показал бумагу.
– Прошу, господин секретарь. Ножки, всепокорнейшее, вытирайте, господин полковник.
Они оказались в туннеле, обитом белой шелковой тканью и освещенном факелами тонкой ажурной работы.
– Ничего себе. – присвистнул от удивления полковник.– Да у тебя здесь палаты царские, Ухватов. Не ожидал.
– Особый арестант и кондиции особые, господин полковник. А-а-а вот ты, где!
Ухватов вытащил спрятавшегося за факелом херувимчика, поднес его к выходу и выбросил вон.
– Летят отовсюду, мухи. С адмиралтейства, с рынка, из университета и все здесь прячутся. Будто медом им здесь намазано, под землей.
– Что же гоняешь? Разве не жалко? – спросил Бабицкий.
– Жалко, ваше благородие, господин секретарь. Глаза у них такие, коровьи, беспомощные. Страсть как жалко. А ну как вспомню, что не по сердцу, а по службе, то ничего. Легче становится. – Ухватов погрозил метлой. – У басурмане.
Ухватов отпер тяжелую дверь и, поднатужившись, потянул на себя дверь. Камера заключенного резко контрастировала с туннелем, вотчиной Ухватова. Сочащиеся влагой стены и скупой свет от одинокой желтой свечи. Бабицкий горделиво выступил вперед.
– Андрей Шлецер, государственный преступ …– и осекся Бабицкий. Это было чудовищно нелепо то, что он увидел. Кандалы присутствовали, как и положено, на руках и ногах, но головы и туловища не было. Вместо них Бабицкий увидел репу, вологодскую огромную репу с грубо намалеванными глазами и ртом. Репа качалась и протягивала к нему руки, звеня кандалами. И все же Бабицкий закончил начатое.
– Вас призывает вице-канцлер.
Вечер сюрпризов.
Тепло и уютно было в кабинете вице-канцлера. Вздыхала голландская печь с изразцами. За пентраграммным столиком с хрустальным винным графином, фужерами и фруктами сидели два заклятых врага или друга. Остерман и кабинет-министр Волынской. Они приговаривали помаленьку, не спеша, рябиновую настойку.
– Право, не пойму, Петр Иванович, чего это мы с вами на людях собачимся? Вы, человек, в области разума пышный. Втолкуйте же мне, как это вы мудрено на днях выразились, тортиле галапагосской, зачем мы это делаем? Всяк во дворце знает, что мы с вами не разлей друзья в делах денежно-государственных, зачем комедию ломаем?
– Знаете, кабинет-министр, я долго живу в России. Нет, здесь все замечательно. Есть государство и все остальные, которые думают, что тоже есть. Есть целый кабинет-министр , но политики, как борьбы идей, в европейском смысле, нет. Пустота вместо. Интересу много у всех и до всего, а идей нет. Не политика в России – пустыня. Мы с вами должны стать началом источников благоухающих, дабы пустыню эту оживить. Верю, за нами придут другие. Толпа дармоедов нагрянет, не сомневайтесь. А пока мне, как ученику дрезденского колбасника, сам Бог велел, шпиговать умы европейскими ценностями, а вам, коренному борщееду и хреногрызу, аромат родных лаптей в покое беречь.
Читать дальше