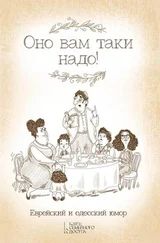ах, как Степанов с друзьями радовались свободе.
Когда пришло наводнение, стало как-то не по себе.
Брошенные дети сбились в стаю маленьких волчат,
ели, что попадалось – печеньки да рыбные консервы,
благо нашли коробку каких-то «бычков в томате» —
варить сами толком они не умели, а повара все уехали.
Они прожили так всего-то дней пять или шесть —
но ему показалось, как будто прошёл месяц.
Отныне всё встало для мальчика на свои места,
не следовало ждать и на что-то надеяться,
именно так был устроен весь окружающий мир —
он и вправду оказался в нём никому не нужен,
это открытие следовало просто принять и понять.
Степанов перестал терзать себя глупой тоской —
он почувствовал себя аборигеном, индейцем из кино,
понял весь ужас одиночества и разгадал его силу,
научился стоически переживать неизбежное.
Когда уезжавшие вернулись, то Степанов и его «стая»
встретили своих бывших товарищей с презрением —
если те струсили, сбежали, предали, то какая тогда
после всего этого между ними могла быть дружба?
Отныне жили врозь – и вели себя как волчата.
…Амур с размаху швырял судёнышко на дебаркадер.
Угадав сына в нечёсаном оборванном существе,
мать почему-то заголосила, будто по покойнику.
Потеряв очки – давным-давно и неизвестно где —
он на ощупь шёл по трапу с вещмешком за плечами,
почти босой, похожий на семилетнего старичка,
пионеры уважительно расступались перед ветераном,
одним из тех, о ком потом будут рассказывать легенды
у стреляющих искрами огромных пионерских костров.
Мать кое-как привела Степанова в божеский вид,
лишив имиджа беспризорника времён гражданской,
но это было только внешне – внутри он стал иным,
теперь он знал истинную цену всем добрым словам,
он понимал, что люди хотят прогнуть его, сломать,
подстроить под себя, чтобы решать всё за него —
и ничего на свете не было важнее личной свободы.
Таких летних «отсидок» было у Степанова ещё много —
каждый год родители отправляли его куда-нибудь,
обычно в заводской лагерь неподалёку от Тейсина,
желательно смены на две, чтоб промаялся до осени —
он не понимал, зачем им всё это было надо, почему?
Занятий ему хватало и дома – книги, кино, гитара.
Но именно там, в этих летних лесных лагеря,
он научился пить и курить, целоваться,
выучил наизусть непотребные песни,
стал материться не хуже сапожника,
безусловно, всё это было очень весело.
Да, он стал таким же, как все его сверстники,
но разве он сам желал тогда этого?
Взрослые хотели сделать, как лучше —
в нынешние времена это назвали бы
принудительной социализацией.
Но Добро, полученное против воли,
почему-то сразу переставало быть Добром.
Осенью 1975-го Алик перешёл учиться
в новую школу, среднюю.
Школа была красивая, большая —
вот только добираться до неё по утрам
приходилось долго и не очень весело.
Возвращалось куда интересней,
спешить домой было незачем —
мать с отцом работали,
брат играл в детсаде.
Тогда-то и сдружился Алик с Димкой,
весёлым черноглазым мальчишкой,
жившем в «частном секторе» —
вместе клали гвозди и монетки
под проходящие товарняки,
искали на свои задницы приключений
в разных загадочных местах.
Фантазёр Димка подсадил приятеля
на Фенимора Купера и Жюля Верна,
дал почитать роман «Спартак»,
правда, без сорока первых страниц.
Бродили по карьерам и рёлочкам,
распугивая собак и кошек индейскими воплями —
готовились стать отважными следопытами.
Через пару лет пути их разошлись.
Отцу Алика дали на заводе квартиру
совсем недалеко от школы,
а Димка нашёл себе нового друга,
интересного, загадочного,
рассказывавшего наизусть целые романы.
Алик видел того друга пару раз —
очкастый дядька в чёрном пальто,
лицо испитое, неприятное – типичный бич,
«бывший интеллигентный человек».
Озорной Димка, тот всё хихикал:
«Смешной! Сядет рядом – и весь дрожит.»
Потом Димка перестал ходить в школу,
учителя шептались о каком-то маньяке,
о беглом зэке, о бедном мальчике —
они, школьники, тогда мало что понимали.
Димка вскоре появился в классе,
но стал почему-то какой-то другой —
тихий, бледный, безучастный,
в комсомол вступать не захотел,
а после восьмого класса исчез совсем,
вроде как пошёл учиться в техникум.
Читать дальше





![Сергей Марьяшин - А принцессы мне и даром не надо? [СИ]](/books/411202/sergej-maryashin-a-princessy-mne-i-darom-ne-nado-thumb.webp)