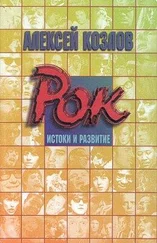Новые времена
Грусть моя – испепеленье воли.
Старый Джокер,
Что ты смотришь вниз-
Сатаной начертанные роли
Клоуны исполнили на бис.
Завершилось время тихим всхлипом.
Хохот оборвался. Тишина.
Отчего же ты припала к липам
С ликом обмороженным, страна-
Отчего ты смотришь, не мигая
Щепки рубят, долу лес летит.
Я не слышу более средь лая
Сладостные звуки аонид,
Не Шанелью освященный запах.
Я не умер, но и не живу.
Пред лотками на куриных лапах
Молох, воздаю тебе хвалу.
Ты нас обокрал и обескровил,
Превратил в руины города.
Кончилась любовь на полуслове,
Полувздохом кончилась мечта.
Новый век. Кровавые кумиры.
День, как ночь. Цепь зла и на часах
Три кита, на коих сфера мира:
Жадность, Похоть и звериный Страх.
Грусть моя. Моя. Не оттого ли,
Старый Джокер, все ты смотришь вниз-
Сатаной начертанные роли
Клоуны исполнили на бис.
Что бы ни говорили, а я не могу найти убедительных причин, способных отвратить меня от исполнения долга с мужеством и стойкостью, достойными Гомера или Вергилия. Сегодня кактус, мой бедный кактус, чье место на окне было безусловным, как скрижали Вильгельма Оранского, засох. Целый год я боролся за его жизнь, поливая благодатную почву в горшке вином, чаем и кофейной гущей. Мои усилия оказались напрасны. Борьба за чью-то сомнительную жизнь – это всегда борьба с природой! По всей видимости, его жизненные силы были подорваны какими-то внутренними причинами. Я вынес мой бедный кактус во двор и, воздев горестные глаза к небу, произнес короткую, но очень красивую заупокойную речь, более похожую на молитву францисканца. Затем я вывалил его из плошки вместе с землей. Он мягко упал в мусорный ящик, и я новыми глазами в последний раз узрел его бездыханное, утыканное иглами тело. Острая жалость к другу в течение всей ночи не давала мне спать. Если горестная бессонница продолжится, то моя плоть не устоит перед искусом лунатизма. Как трудно порой противостоять своим естественным инстинктам и ставить перед жалостью защитные барьеры, когда обладаешь тонкой и чувствительной душой, трепещущей и взмывающей при каждой дисгармонии мира. Кто сможет понять и оценить мои метания? Кто увидит их в свете всеобъемлющей любви, наполняющей мироздание?
Людские косность и равнодушие несомненно были причиной гибели многих талантов. Гидра чиновничества много постаралась для того, чтобы мой герой не смог обрести подобающего ему места в анналах русской литературы. О, как бренно слово, какая это хрупкая материя и как трудно доказать даже таким корифеям, что они не напрасно поедают свой хлеб и не даром пьют свою кипяченую воду. В этой стране любят богов, по крайней мере, внешне, но пророков не переносят и бьют их по голове. Всегда. Всегда. Всегда. Всегда. Сейчас, когда я окунаю перо в чернильницу и аккуратно вывожу каллиграфические буквы, когда эти горестные строки заполняют страницы, я боюсь даже взглянуть в зеркало, боюсь увидеть скорбь в своих сильно расширенных зрачках. Мне будет трудно в придачу ко всем жизненным горестям прибавить еще одну. Я не перенесу такой картины. Это было бы выше моих сил. Тьма, укрой своего страдальца мягким пологом сна и укрепи его силы в борьбе с новыми испытаниями. Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щёки, затылок и живот пока не лопнут и не начнут дома и колокольни плясать свой дикий танец! Ветер! Ветер! Раздуй огонь в кострах, печах, заслонках, жги эти крыши, балки, всё сметая, раздуй над этим гадостным мирком пожар пожаров, в коем сгинет скверна.
Робинзон
В чужой отчизне я как Робинзон,
Язык родной в устах у Каннибала
Я не могу уже понять нимало.
Я не живу, но и не умерщвлен.
Раскинул сеть мой город, как паук,
Топыря швы слоистого хитина,
Из зеркала выглядывает мина
С глазами в обрамленьи грустных дуг.
Надежда объявляет карантин.
Не вижу ничего, никто не снится,
Ни фрак не нужен мне, ни власяница,
На Рождество я мертв и не молиться
Господь мне указал, как господин
Всего того, что прячется вдвойне,
И вопреки всему, живет во мне.
Мандельшпрот еду поглощал жадно, без задней мысли, большими кусками, почти не жуя и не глотая. Лукулл. Схватит шоколадку – и в рот, схватит крендель – и в рот. И пищу почти не переваривал совсем, как истинный неандертальский человек. Копь. Нам, кроманьонцам, все бы это было удивительно и ново, да и не скрою, завидовали порой мы ему, как будто он нам укор какой дал. Вот фря-то какая! Мелкий он был человек и ничтожный, этот Мандельшпрот. Даром, что фамилия у него была такая. Не советская. Намотай себе! Сдо- Даже неандертальцу подобают не разнузданные телодвижения органов и дикий смех, а скромность и застенчивый румянец на морде. Отце! Пососю! Пососю!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу