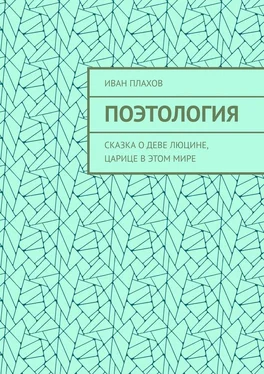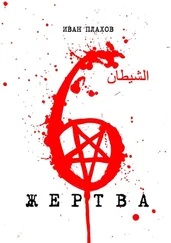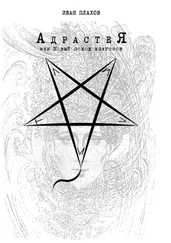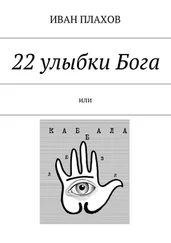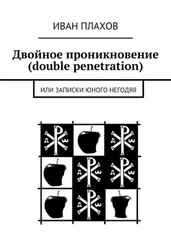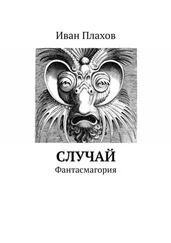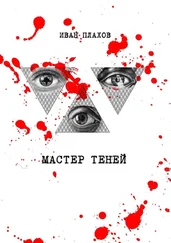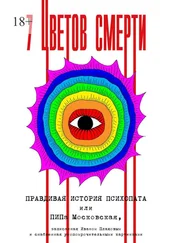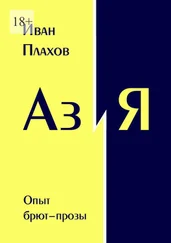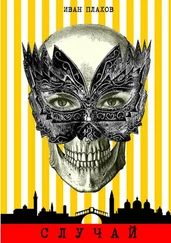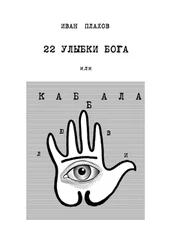Желтый глаз ультрамарина
В фиолетовом закате
С наслажденьем отвращенья
Приближает день к расплате,
где весь смысл сказываемого строится на игре слов и понятий. Если каждое слово в данном четверостишье обозначить просто буквами А, B, и С, то оно начинает выглядеть как некая химическая формула, каковую можно условно назвать простейшей поэтической молекулой.
«Поэзия должна быть горьковата…
а в качестве пряности
во все это необходимо добавлять
элемент шарлатанства».
Венедикт Ерофеев
Этот интерес к формальной стороне слова, когда, тем или иным образом организованное, оно начинает приобретать новое качество подметили еще художники, отмечая, что «форма эта будет производить определенное внешнее впечатление, за которым последует и внутреннее переживание. [В стихах] даже буква становится существом и обнаруживает свою внутреннюю сущность. Буква начинает является как бы маленькой композицией, состоящей из отдельных частей, причем: во-первых, она сама, в своей совокупности, обладает общим звучанием, грубо определяемым как нечто „веселое“, „грустное“, „порывистое“, „увядающее“, „упрямое“, „дерзкое“ и т. д., и т. д.; во-вторых, она состоит из отдельных, так или иначе движущихся черточек, из которых каждая в отдельности обладает своим личным звучанием – „веселым“, „грустным“ и т. д. И какие бы ни были в своем личном характере эти черточки, общее звучание всей буквы остается неизменным. Точно такое же существо представляет из себя и каждое художественное [поэтическое] произведение: состоя из различных звучаний, оно дает в своей совокупности звучание общее, ему неотъемлемо и органически свойственное. Из примера с буквой истекает последствие особой важности – действие буквы двоякое: первое, буква действует как целесообразный знак; второе, она действует как форма, а позже и как самостоятельный и независимый внутренний звук этой формы. И оба эти действия стоят вне взаимной связи друг с другом, причем первое действие чисто внешнее, второе же обладает внутренним смыслом. Отсюда: внешнее действие может быть вообще другим, нежели внутренне возникающее из внутреннего звука ». (В. Кандинский).
***
Не является ли тогда поэзия неким процессом алхимизации, преображающим нейтральные элементы слов во что-то качественно новое, в совокупности своей обладающее некой вещей силой. Ведь очевидным образом совокупное качество отдельных слов из «Илиады» явным образом не равно их единому качеству в объеме поэмы. Эта некоторая сделанность слов в поэзии вынужденно заставляет считать ее неким искусством, каковым она на самом деле не является. Ощущение своей полной непричастности миру и реальности – вот что возникает во время действия поэзии. Точнее говоря, внешние и внутренние «реальности» воспринимаются как равнозначно безразличные. Поэтическое восприятие постепенно обнаружило, что все объекты внешнего мира имеют символическое значение, а потому все они равнозначны, а жизнь несет такую же символическую нагрузку, как и смерть. Понятия, которые раньше (в мифологии) способствовали различению объектов по их значимости для наблюдателя, такие, как «хорошее» и «плохое», «люблю» и «не люблю», в поэзии утратили свой смысл. В поэзии утрачивает смысл и ощущение времени. В потоке равнозначных образов можно успеть понять и переварить только сиюминутное, предшествующий опыт – сама память – часто становится просто ненужным, мешающим бременем для поэта. По самой своей сути поэзия есть альтернатива жизни – это использование читателем (common man) чужого эмоционального опыта поэта (marginal man) для достижения психического удовольствия. Через сопереживание, как части эмоциональной игры, поэт приводит читателя к одному парадоксальному результату – возможности избавиться от своей личности на время, растворив самого себя в чужом творчестве, при этом используя чужие эмоции как наркотик.
Поэзия в некоем роде самодостаточна бытием слов, т.к. «лучший способ сочинять стихи – это давать ВЕЩАМ ВОЛЮ» посредством их приз-вания (от слова приз (pris) в значении «цена, стоимость») и призывания (в значении зова, завета, обязательства).
Стоимость же самой поэзии напрямую зависит от того, как она нам сказывает, так как то, что она сказывает, носит в нас привходящий характер и от нас самих не зависит. Ведь именно так когда-то давно было сказано одним поэтом о другом поэте, что: «Можно ли заинтересовать [читателя] искусным пересказом сюжета? Можно ли нашего современника заставить с художественным интересом следить за героями, нередко действующими по таким совершенно чуждым нам побуждениям? [Все сразу изменится] если мы обратим внимание на то, как все рассказано у [настоящего поэта]. Мы найдем у него высокое мастерство художественной речи. Мы найдем ту власть над словом , которая позволяет поэту сказать больше, чем вообще могут говорить слова, и овладеть которой в наши дни стремятся все пишущие стихи. Он [поэт] постоянно стремится, чтобы звуки выбранных им слов соответствовали тому, что они выражают. Для поэта… [в самом предмете поэзии] есть [только] сплошной ряд изумлений перед властью человека над стихией слов». (В. Брюсов).
Читать дальше