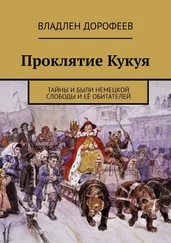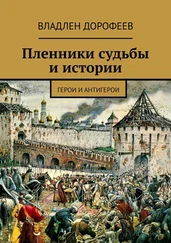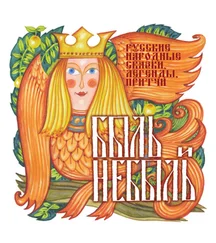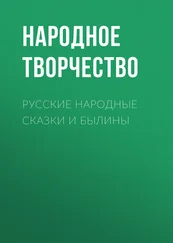По следам этого нашего разговора я потом написал и опубликовал две статьи о путях возрождения и развития Загорска в газетах «Советская культура» и «Советская Россия». Ещё в середине восьмидесятых годов двадцатого века они вызвали большой отклик у читателей, а спустя десятилетия многие мысли художника воплотились в жизнь. Приезжайте в Сергиев Посад, сами увидите!

Образцы старинной филимоновской игрушки
Яркость древних ремесел люблю.
Я народной игрушкой взволнован.
Моих пращуров дух я леплю,
Светлой сказкой навек околдован.
Рассказывал мне Николай Васильевич Денисов, как много раз в жизни снился ему один и тот же сон. Будто он мальчик. Лихо устроившись на передке телеги, отправляется в путь. За спиной осталась родная околица, впереди размытый весенними ливнями просёлок. В ногах у него крепко зажато жестяное ведро, с верхом наполненное глиняными свистульками. И везёт он их в город, на базар. Нетерпеливо дёргает поводья, распевая песню: «Ехал на ярмарку ухарь-купец, ухарь-купец, удалой молодец…» Каждая потешка из его ведра стоила гривенник; когда всё продал «торгашу» на рынке, получилось около двух рублей. Купил Коля несколько отборных картофелин и вернулся в деревню. Посадил их в огороде, а осенью собрал добрый урожай…

Древняя свистулька
Сызмальства в их многочисленных крестьянских семьях дети играли незатейливыми глиняными свистульками. Но удивительно, каким многообразным и таинственным рождался сказочный мир, выстроенный из глиняных поделок в детском сознании! Вот грозный всадник промчался по дорожной пыли мимо на лихом коне далеко, за околицу! Видать, гонец в губернию помчался! А эта барышня, «тётка Анастасия», несёт курицу на рынок, ей навстречу соседка, «тётка Лизавета». «Зацепились барышни языками», и давай кудахтать, косточки всем перемалывать! Заливается свистом свистулька барышни… Ха-ха! – смеётся маленький Коля, играя у дома на деревенской дороге в глиняные фигурки.

В домашнем музее Н. В. Денисова в Филимоново
Образы филимоновской игрушки из детства останутся с Николаем Васильевичем на всю жизнь, куда бы ни заносила его судьба.
Николай Васильевич родился 5 марта 1932 года на тульской земле, в деревне Шалимово, что в десятке километров от древнего Одоева.
Детство Денисова пришлось на тревожное голодное время коллективизации и войны.
От изматывающего труда в колхозе его мать – Прасковья рано стала болеть. Её образ он описал поэтическими строками:
Я часто вспоминаю мать живой.
Была война у самого порога,
И тот закат над лесом огневой,
И мать, крестясь, звала на помощь Бога.
У матери в заботе и труде
Болели руки, тяжелели ноги,
Тогда не знал я, что беда к беде
Шли по одной к нам фронтовой дороге.
От «похоронок» долго жила боль,
Но мать крепилась и детей растила.
И отдавала людям хлеб и соль,
И всё, что сердце доброго вместило…
Тяжёлый крестьянский труд в деревне не разделял людей на взрослых и детей, все работали, что хватало сил и даже больше… А иначе было попросту не выжить. Каждый день в те годы у него, и у матери с отцом, и у братьев с сестрами проходил в борьбе за жизнь. Особенно в оккупации, под бдительным и ненавидящим оком фашистских захватчиков, уже проявивших себя нечеловеческой жестокостью.
На белом снегу заплаты,
Поля от пожарищ темны.
Идут на прорыв солдаты,
России идут сыны…
Идут краснозвездной лавиной,
Их подвиг бессмертен и лих.
Их кровь, будто кисти рябины,
По снегу рассыпалась вмиг.
Но кровь не напрасно пролита
В смертельном тяжелом бою
Фашистская свора разбита,
Спасли деревеньку мою.
Но не только бесконечный труд и голод изматывали в то время враз повзрослевшего Николая, отбирая последние физические и моральные силы. Это были нестерпимые переживания за родных защитников на фронте… Постоянной тревогой изъедающая мозг мысль: «Как они там? Отец, брат… Живы ли?!.» – стучит в висках.
Читать дальше
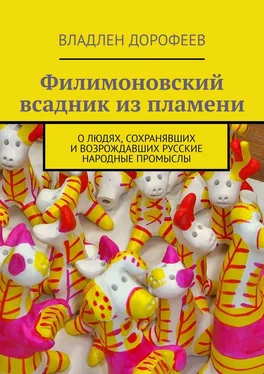



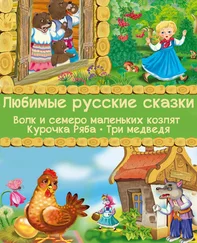
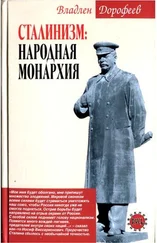

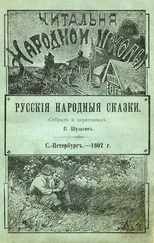
![Народные сказки - Русские народные сказки [Илл. Р. Белоусов]](/books/419820/narodnye-skazki-russkie-narodnye-skazki-ill-r-b-thumb.webp)