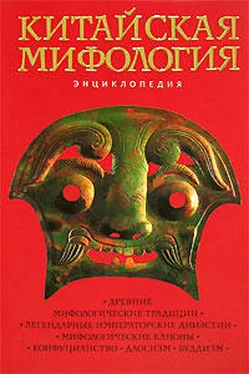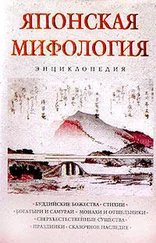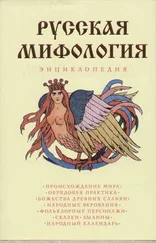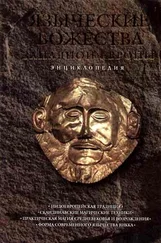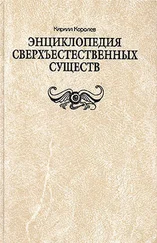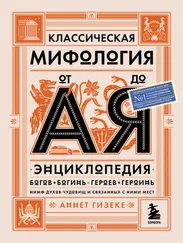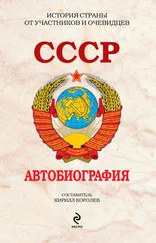Перевод под ред. А. Е. Адалис и И. Голубева.
В другой главе «Чжуанцзы» уточняется: «Понимающий сущность жизни не занимается бесполезным; понимающий сущность судьбы не занимается тем, к чему незачем прилагать знаний. Для поддержания тела прежде всего необходимы вещи, но бывает, что тело не поддерживают, [хотя] вещей в избытке. Чтобы жить, следует прежде всего не расставаться с телом, но бывает, что теряют жизнь и не расставаясь с телом. От прихода жизни нельзя отказаться, ее ухода не остановить. Увы! Ведь в мире считают, что пропитания тела достаточно для поддержания жизни, хотя пропитания тела, разумеется, недостаточно для поддержания жизни. Почему же в мире считают это достаточным? И [почему] неизбежно все так поступают, хотя этого и недостаточно? Ведь тому, кто хочет избежать забот о теле, лучше всего уйти от мира. Уйдя от мира, избавляешься от бремени. Избавившись от бремени, становишься прямым и ровным. Став прямым и ровным, вместе с другими обновишься. Обновившись же, станешь близок Дао».
Первоначально практиковалась алхимия вай-дань («внешних средств»), которую сменила сложившаяся под влиянием буддизма алхимия нэй-дань («внутренних средств», или «даосская йога»). Как писал Е. А. Торчинов, «истоки внешней лабораторной алхимии восходят к эпохе Чжань-го и к поискам долголетия и бессмертия ханьского времени. Ее расцвет приходится на период Шести династий (Лю-чао, III–VI вв.) и первую половину танской эпохи, после чего она постепенно приходит в упадок и исчезает, уступив место своему психопрактическому двойнику — „даосской йоге“, внутренней алхимии, имевшей более древние корни, но обретшей систематичность и терминологичность именно благодаря лабораторной практике искателей эликсира бессмертия. Мода на лабораторную алхимию вернулась при династии Мин (XVI в., особенно в правление „даосского императора“ Цзяцзина / Ши-цзуна, 1521–1566), но это была уже именно мода, имевшая поверхностный и достаточно дилетантский характер, да и оказавшаяся к тому же весьма эфемерной. Многие алхимики и в период расцвета своей традиции практиковали „внутренние“ методы „хранения Одного“, по существу готовя окончательный переход от лабораторного делания к духовной трансмутации».
«Разжалован и сослан, доехав до заставы Ланьгуань, даю наказ внучатому племяннику Сяну». (Перевод В. В. Мещерякова). О причине своего изгнания Хань Юй говорит так:
С утра, мой доклад, обличавший изъян, на Небе Девятом прочли.
Под вечер, приказано ехать в Чаоян, в изгнанье за тысячи ли.
Чтоб вычистил ересь Верховный Мудрец, я с тайной надеждой просил,
А вышло встречать этой жизни конец, исчахнув от хворей, без сил.
Перевод А. Е. Адалис.
Небесных дев сяньнюй часто отождествляли с оборотнями цзин (прежде всего с лисами-оборотнями). Характеристика, которую дает фее реки Ло поэт Цюй Юань, вполне приложима и к оборотням:
Фу-фэй красу лелеет горделиво,
Усладам и забавам предана.
Она хоть и красива, но порочна.
(«Скорбь отрешенного». Перевод А. А. Ахматовой.)
По замечанию В. В. Малявина, «в действительности облик и даже имя Чжункуя наследовали образу заклинателя демонов, который в древности рисовали на деревянных дощечках в качестве оберега».
Согласно трактату «Гуань-инь-цзы», демоны и бесы отличаются от людей и тем более божеств своей неспособностью познать Дао: «Без Дао-Пути нельзя было бы говорить, но то, о чем нельзя сказать, и есть Дао-Путь. Без Дао-Пути нельзя было бы мыслить, но то, о чем нельзя мыслить, и есть Дао-Путь. Небо и сущее крутятся в бурлящем водовороте, люди и их дела спутаны и переплетены, во множестве кружатся в коловращенье, со звоном сталкиваются, борясь друг с другом. Молниеносно сменяются — как будто есть и вот уже исчезли. Однако они ратоборствуют с ним, они латами защищаются от него, поносят его, кричат на него, уходят от него и нуждаются в нем. Говорить о нем — как дуть на тень, думать о нем — как разрезать пылинки. Совершенная мудрость и ум порождают заблуждение, демоны и духи не обладают сознанием. Только то, что нельзя соединять, чего нельзя достичь, нельзя измерить, нельзя разделить, называют Небом, называют судьбой, называют духом, называют изначальным, а все это вместе называют Дао-Путем».
Тот же источник приводит любопытные сведения о нынешнем отношении к «кумирам»: «„Культурная революция“ принесла огромные бедствия стране и ее народу. Идеологический фанатизм, жажда наживы и бесчинства экзальтированной толпы привели к безвозвратным потерям произведений искусства, культовых предметов, построек, значительная часть которых имела многовековую историю. Огромное количество монастырей и кумирен было разрушено и разграблено, даосские скульптуры уничтожались бесчисленно. Часть культурного достояния даосов удалось спасти только благодаря мужеству, преданности и находчивости служителей культа и отдельных мирян. Так, известная во всем мире мраморная статуя Лаоцзы династии Тан была спасена монахами, которые на время скрыли ее в земле. Ныне она находится в столичном монастыре Байюнь-гуань. А на горах Цинчэншань толпы хунвэйбинов были остановлены плакатами с цитатами Мао Цзэдуна, которыми даосы закрыли большие статуи кумиров.
Читать дальше