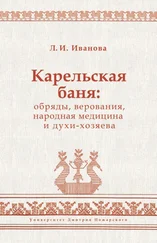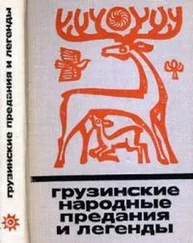В фартук руку опускает,
горсть червонцев вынимает,
на подол кладет сыночку.
«Глянь-ка, как звенят звоночки!
Тсс... мой мальчик, тсс... мой крошка,
Дзинь-дзинь! Вот звенят занятно!
Подожди еще немножко,
мамка вновь придет обратно,
поиграй здесь, мой сыночек,
я вернусь через часочек».
Сыну так она сказала
И скорей бегом из зала,
прочь от каменного входа,
по мосточку через воду,
по пригорку, прямо к лесу,
золота не чуя весу,
в хижину свою вбежала.
«Эх, ты, бедное жилище,
скоро я тебя покину!
Что за радость в жизни нищей
гнуть с зари бессменно спину!
Из глуши лесной дремучей
я уйду теперь на волю,
попытаю жизни лучшей,
обновлю былую долю;
жить начну теперь иначе:
мне теперь дорога всюду,
улыбнулась мне удача, —
в городе теперь жить буду;
дом куплю себе, землицы,
стану госпожой богатой,
здесь я больше не жилица,
прощевай навеки, хата!
Я с житьем покончу вдовьим,
не трудясь из сил последних:
вот богатство»,—с этим словом
опускает взор в передник.
Ах, уж лучше б не глядела!
Вся от страха помертвела,
вся от страха задрожала,
чуть без памяти не пала.
Смотрит, — смотрит — что же видит,
собственным глазам не веря!
Распахнула настежь двери,
Крышку с сундука сорвала, —
Что же с серебром-то стало?
Люди добрые, поймите,
посочувствуйте обиде!
Видит, скованная страхом:
вместо серебра каменья,
а в передника холстине,
о, пустое наважденье,
вместо злата — комья глины!
все ее надежды — прахом!
Не нашла ты счастья в кладе,
недостойна благодати.
Страшная беда такая
сердце ей сжимает тяжко,
сына снова вспоминая,
плачет и кричит бедняжка».
Крик тот стены потрясает:
«Ох, дитя, ох, сын мой милый!»
«Сын мой, милый, милый, милый!» —
эхо гулко повторяет.
И в предчувствии ужасном
мчится и летит, как птица,
по пригоркам и по склонам,
лесом, ельником зеленым,
к взгорью, к скалам, тем опасным,
там где церковка таится.
Тихо ветра дуновенье
пролетает по дубраве;
почему ж не слышно пенья? —
Хор Христа уже не славит.
А когда к скале примчалась,
Что ж пред нею оказалось?
Здесь, в трехстах шагах от храма,
в гущине сплетенных веток
камень высится тот самый,
входа ж и в помине нету,
свод исчез, скалы не стало,
словно вовсе не бывало.
В смертном женщина испуге!
Как зовет она, как ищет!
по кустам безплодно [7]рыщет,
по холмам, по всей округе.
Взор ее как у безумной,
губы страшно посинели,
ломится в кустарник шумный,
продираясь в цепком хмеле:
«Горе мне! Ребенка нету!»
Ветви тело ей терзают,
иглы ноги изъязвляют. —
Не найти ей ту примету,
хоть весь век искать по свету!
И опять тоски волною
мать охвачена до дрожи:
«Где ты, дитятко родное!
Где ты, мальчик мой пригожий?!»
«Здесь я, под землей глубоко! —
голосок в ответ ей глухо: —
ничьему невидим оку,
ничьему неслышен уху.
Здесь сокровища сокрыты,
мне еды, питья не надо,
гладки мраморные плиты,
золотой мне звон — отрада!
Хорошо мне здесь, уютно,
здесь ни дня, ни ночи нету,
здесь без сна пробыть не трудно;
слышишь, как звенят монеты?»
Мать, с отчаяньем во взоре,
ищет в муке безысходной,
наземь падает, рыдает,
волосы рвет, причитает,
вся в крови, с несчастьем споря:
«Горе, ох какое горе!
Где ты, мой сыночек родный,
где ты, мой малютка милый?»
«Мой малютка милый, милый!» —
эха гул звучит бесплодный.
Дни за днями хороводят,
превращаются в недели,
быстро месяцы, проходят,
вот и листья пожелтели.
На пригорке, там где буки,
церковушка с малой вышкой:
благовеста слышны звуки
через лес к деревне близкой.
Поутру, когда к обедне
колокол народ сзывает,
пред иконой пахарь бедный
низко голову склоняет.
Но кому известна эта
женщина, что на коленях?
Хор замолк, и нету света,
а она еще в моленьях.
Бледностью лицо покрыто,
щеки залиты слезами,
неподвижная на плитах,
кто она? Узнайте сами.
Лишь окончится служенье
и закроют двери в храме,
мы ее скользящей тенью
видим между деревами.
Вниз идет она помалу,
по тропинке меж кустами,
где покрыты мохом скалы,
где торчит дорожный камень.
Здесь она вздыхает тяжко,
скрыв лицо свое в ладонях:
«Ах, сынок!» и взор бедняжки
вновь в слезах горючих тонет.
Читать дальше
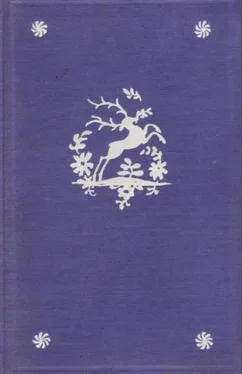
![Яромир Тишинский - Вечная осень нового мира [СИ]](/books/35127/yaromir-tishinskij-vechnaya-osen-novogo-mira-si-thumb.webp)