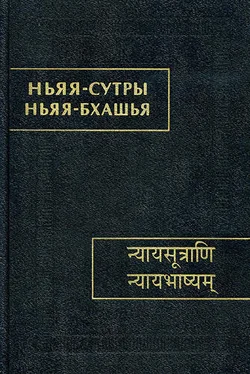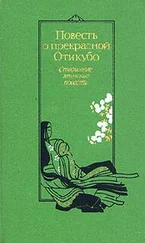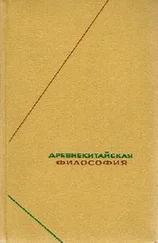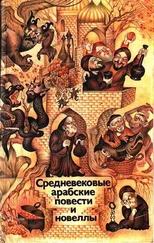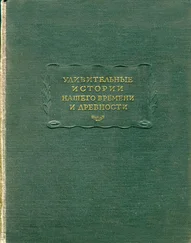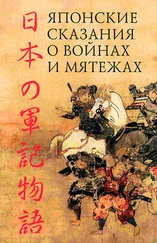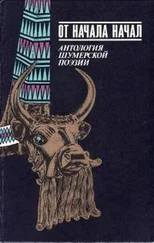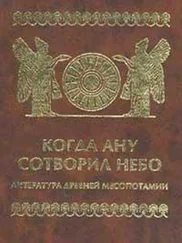6. В других пассажах Ватсьяяна обобщает материал «Ньяя-сутр» как изыскание о категориях-падартхах. Завершая истолкование всего I раздела, он обобщает его словами: «Итак, категории, начиная с источников знания, были именованы, определены и, в соответствии с определениями, исследованы…» (толкование к I.2.20). Весь же комментарий завершается резюме: «Так все категории, начиная с источников знания, были именованы, определены и исследованы» (толкование к V.2.24). Иными словами, он обобщает все философское содержание сутр ньяи, или «науки ньяи», в виде 16 категорий, интерпретируя и общефилософский материал в параметрах данной категориальной системы.
Эти более чем лаконичные положения Ватсьяяны свидетельствуют о многом. Во-первых, о том, что он осознает критику оппонента (скорее всего за ним скрывается буддист) в связи с разномасштабностью 16 падартх ньяи и эксплицитно различает среди них, в соответствии с типичной моделью общеиндийской ментальности, падартхи прагматические и безусловные (падартхи par excellance), считая, что с точки зрения относительной истины их 16, с точки зрения абсолютной — только две и первые находятся в отношении субординации по отношению ко вторым в общей системе философских первопринципов. Во-вторых, и это первостепенно важно, все падартхи ньяи, притом «малые» в первую очередь, составляют ее различительные признаки как науки философии, обеспечивая ньяю, отождествляемую с философией как таковой, собственной, специфической предметностью, без которой она не отличалась бы от гносиса Упанишад, т. е. дофилософских текстов. В-третьих, все 16 падартх получают отчетливое онтологическое прочтение: они соответствуют самому сущему в виде его форм, особых модусов, притом подчеркивается их обладание наличным, «положительным» бытием, в каковом качестве они противопоставляются всей области не-сущего.
В результате падартхи в трактовке Ватсьяяны приобретают все характеристики философских категорий по современным критериям. Они соответствуют помимо изначально присущего им уже на их «дофилософской» стадии формального критерия «атомарности», несводимости друг к другу (см. § 2) также и двум другим — фундаментальности и общезначимости — благодаря тонкой диалектике, преодолевающей их разнородность и дающей возможность субординировать 14 «прагматических» категорий по отношению к двум высшим, при которой первые, однако, не «поглощаются» вторыми, а сохраняют свой «правовой статус». Они соответствуют философским категориям и на содержательном уровне, ибо маркируют не меньшее, чем разновидности самого сущего, и потому даже «прагматические топики» оказываются, в контексте философской рефлексии, уже не пунктами контровертивной диалектики, но онтологическими (даже не гносеологическими, как их нередко понимали) категориями. Таким образом, гений Ватсьяяны впервые построил ньяю именно как философскую систему, обеспечив ее прочным теоретическим основанием, выявив специфику философской деятельности и набросав одновременно контуры совершенно специфической и, безусловно, новаторской онтологии, предметность которой составляет не «объективное» бытие (его он оставил вайшешикам), но «субъективное», точнее, интерсубъективное, — мир интеллектуальной практики. В том, что Ватсьяяна осознавал масштабы своих достижений, можно сомневаться, но это и закономерно, ибо субъекту подлинно креативной деятельности, как правило, не дано видеть ее результаты.
Соображения хронологического порядка допускают, что именно начиная с Ватсьяяны термин padārtha и становится основным способом категоризации самих философских категорий в индийской культуре, равно как и предметом специальных и, как было выяснено, весьма многочисленных трактатов, посвященных философским категориям (см. выше). То, что именно Ватсьяяна мог стать инициатором философского прочтения этого изначально грамматического термина, хорошо сочетается с его общепризнанной близостью традиции грамматистов [47]. Какими соображениями он руководствовался, избрав для этого именно данный термин (который в самих «Ньяя-сутрах» фигурировал в чисто лингвистическом контексте — см. § 2), сказать, конечно, трудно. Но одним из них вполне могло быть и рассуждение, отражающее по существу тот совершенно правильный взгляд на вещи, по которому философские категории — как конечные понятийные универсалии — в определенном смысле содержат в себе конечное значение (artha) любых других понятий-слов (pada). Если это предположение не лишено основания, то интуиция Ватсьяяны могла в таком случае поддерживаться авторитетом первопринципов вайшешики, которые по крайней мере частично отвечали этому высокому метафизическому назначению [48].
Читать дальше