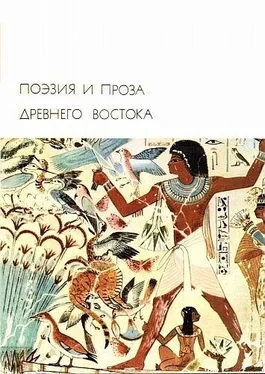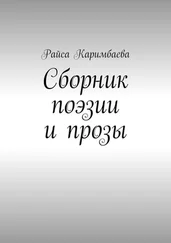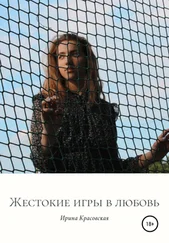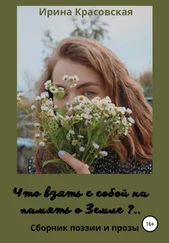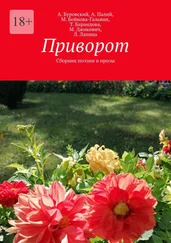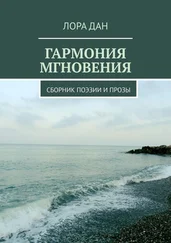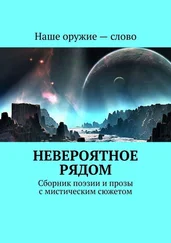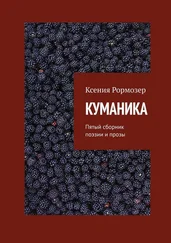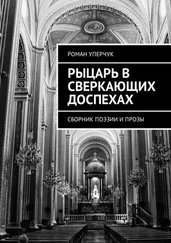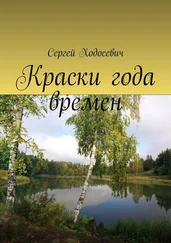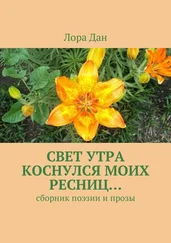И вместе с тем всем им свойственны некоторые общие черты, результат развития в сходных исторических и культурных условиях — а именно, расцвета «античности» (древности) и начала перехода к средним векам.
Устное творчество, продолжавшее развиваться параллельно, оформилось как фольклор, то есть не долитературное, а внелитературное, коллективное творчество народных масс, впервые сосуществующее рядом с письменной литературой как формой общественного сознания, присущей образованной части общества.
Более четко пролегают границы и между двумя тенденциями в литературе. Аристократически-церковное отношение к обычному человеку как к рабу земных и небесных господ, как к «сосуду зла», является выражением антигуманистической тенденции. Гуманистическая же тенденция, напротив, выражается и в расширении социального круга людей, изображаемых в литературе, и в большем выявлении духовного качества выдающейся, героической личности.
На последнем этапе, по существу, уже переходном к новой исторической эпохе, по-новому ставится в некоторых произведениях основная проблема, волновавшая писателей того времени, — отношения человека и бога. В центре внимания в таких произведениях находится не преклонение человека перед божеством, и, с другой стороны, не мотивы богоборчества, а неизбывная, самоотверженная любовь человека к богу; человек — не раб божий, а друг божий. С этим связано и новое выражение гуманистической идеи — человеколюбие . Литература создает образ человека-брата, сострадателя; образе героической личности преобразуется в образ человека — сына божьего, богочеловека. Из древневосточных литератур это особенно характерно для манихейской и буддийской.
С этим связано и стремление литературы выйти за узкие территориально-этнические границы, преодолеть жесткий смысл понятий: «единоплеменник», «единоверец» — «чужак», «иноплеменник», — и стать единой, вселенской разноязычной литературой.
Эти общие черты укрепляются благодаря усилению и прежде существовавших, но менее тесных, контактных взаимосвязей литератур Древнего Востока между собой, связей не только внутри регионов, но и между регионами; ближневосточных с индийской, индийской с китайской и др.
Возникает новое явление — литературный синтез , складываются литературы, основанные на этом синтезе. Таковыми стали, например, древнеиранская и древнееврейская — особенно к концу завершающего периода своего развития.
Даже общее знакомство с текстами древнеиранской литературы на всем ее протяжении выявляет наличие в ней отзвуков, элементов словесности и литератур шумеро-аккадской, индийской, древнееврейской, хеттской, в последние века — и китайской. Признание Мазды верховным божеством было подготовлено распространением этого культа в Урарту. Но из-за этого древнеиранская литература вовсе не стала подражательной, «заемной», а стала еще более самобытной, органически сплавив все эти воспринятые ею элементы, органически переработав их по-своему, в собственном, оригинальном духе. Развив идеи вечной борьбы Добра и Зла, древнеиранская литература и религия (общие в своем синкретическом единстве) дошли до идеи Верховного бога как всемогущего воплощения Добра, приблизились к абстрактной идее единого бога и оказали свое влияние на другие литературы, в том числе древнееврейскую. На двух этапах развития гуманистической идеи в древневосточной литературе в целом древнеиранская литература создала: на первом — бессмертные образы героической личности — человека духовной силы, пророка Заратуштры и человека физической силы — Рустама, а на втором — образ великого «художника» и пророка Мани, сочетавшего в своем учении идеи зороастризма, раннего христианства, буддизма… Таковы черты древнеиранского синтеза [4] См. об этом в настоящем томе в специальной статье и примечаниях.
.
Древнееврейская литература также унаследовала многое из древнеегипетской, шумеро-аккадской, угаритской и древнеиранской литератур и воззрений. Но и здесь мы имеем дело не с подражательством и эклектическим смешением часто разнородных элементов, а с литературным синтезом литератур Ближнего Востока. Именно это, а не некое «избранничество» и обусловило высокие литературно-художественные достоинства такого памятника, как Библия.
В самой структуре Библии («Ветхого завета») отразился принцип традиционализма, который состоит в том, что каждая следующая литературная стадия представляет собою как бы «комментарий» к предыдущей. Библия, как известно, состоит из трех частей: «Пятикнижие», «Пророки» (Малые и Большие), «Писания». «Пророки» опираются на «Пятикнижие», отстаивают его неукоснительное соблюдение и рассматривают его как источник и оправдание всех событий и проповедей, содержащихся в книге «Пророки». «Писания» все время как бы апеллируют к двум первым частям, особенно к «Пятикнижию», но — и к «Пророкам». Такие книги, как «Псалмы», «Экклесиаст», «Притчи», «Песнь песней», связываются с личностями, являющимися основными героями в «Пророках», — царями Давидом и Соломоном; «Плач» — приписывается пророку Иеремии и т. п. Этот «комментарийный традиционализм» свойствен и формированию индийской и китайской литератур (о чем говорится в соответствующих очерках в настоящем томе).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу