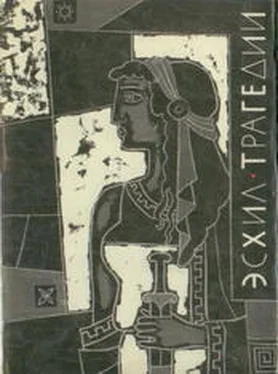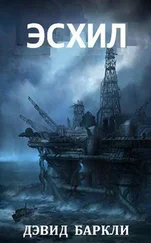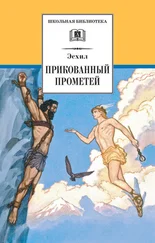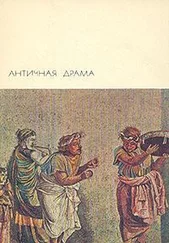Пускай безвластья избегают граждане
И самовластья.
(699-700)
Таким образом, антитираническая идея проходит через всю трилогию.
Однако мифологический сюжет, на котором трилогия построена, посвящен кровавым расплатам за кровавые преступления. На материале этого сюжета Эсхил еще и еще раз утверждает свою философскую веру в справедливое возмездие, в Дике. Можно привести десятки выдержек из “Орестеи”, характеризующих непоколебимость и универсальность этого воззрения поэта. Но возмездие убийством вместе с тем является новым преступлением, за которым неизбежно следует новое возмездие, так что оно может повторяться бесконечно, до полного истребления рода (как в фиванском сказании).
В “Орестее” возникает еще новая трагическая ситуация. Убийцей Агамемнона является его жена Клитемнестра (в “Одиссее” при соучастии Клитемнестры убийство свершает Эгист), и мститель — Орест — должен убить и убивает свою мать. За это тягчайшее преступление его преследуют богини возмездия Эринии. Убийство, свершенное Клитемнестрой, они столь тяжким преступлением не считают, так как кровь Агамемнона для нее — не родная:
Она убила мужа. Муж — чужая кровь.
(607)
Выяснению вопроса о вине Ореста и его преследовании Эриниями посвящена вся заключительная часть трилогии. Выступающие в защиту Ореста Аполлон и Афина считают, что его следует оправдать, так как род идет по отцу, и что, отомстив за убийство родителя, он поступил так, как этого требует кровный долг сына. Несомненно, что в этом мифе о споре богов нашла отклик историческая борьба между матриархатом и патриархатом. 2Но эта борьба принадлежала незапамятным временам, и вряд ли она Эсхила волновала сама по себе. Поэта занимала не далекая старина, а современность, для которой и привлечено древнее сказание. Это явствует из финала трилогии.
Конфликт разрешается учреждением высшего афинского судилища, ареопага. Вопрос об ареопаге, долгое время бывшем главной опорой власти старой земельной аристократии, стоял в период создания “Орестеи” чрезвычайно остро. За четыре года до ее постановки демократическая реформа Эфиальта отняла у старинного судилища все права, кроме права разбирать дела о предумышленном убийстве.
Ученые немало спорили и продолжают спорить: звучит ли в монологе Афины, учреждающей ареопаг, осуждение реформы? Ведь Эсхил прославляет ареопаг как “спасительный оплот стране и городу”, который
…внушает гражданам
Почтение и родственный почтению
Страх пред виною.
(694-696)
По-видимому, ответить на этот вопрос однозначно нет возможности. Но свои политические воззрения Эсхил высказал в трилогии достаточно полно, хотя и обобщенно. Мы уже говорили об антитиранических мотивах в первых двух трагедиях. В “Эвменидах” поэт говорит и о пагубности другой крайности — безвластия, ведущего к упадку благочестия и нравов.
Ни безвластья, ни бича
Строгой власти над собой
Не хвали.
Богу всегда середина любезна, и меру
Чтит божество.
(529-533)
Высокий политический пафос заключительной части трилогии в том, что в клокочущей борьбе между различными общественными лагерями Эсхил зовет к преодолению этих крайностей, ставящих преграды процветанию полиса.
…молю о том, чтоб никогда
Здесь не гремели мятежи и смуты
Усобиц ненасытных…
…
Молю о том, чтоб гражданам на радость
Согласье здесь царило, чтоб любовь
И ненависть у всех была одна.
(977-988)
Не только вопрос об ареопаге связан с политическими тенденциями трагедии. К этим тенденциям относится, например, обоснование тогдашних притязаний Афин на Троаду тем, что богиня родного Эсхилу полиса помогла ахейской рати овладеть Илионом (“Эвмениды”, 460-461). В клятвенном заверении Ореста, что Аргос всегда будет верным союзником Афин (“Эвмениды”, 705 слл.), отстаивается важность совместной борьбы этих двух демократических полисов против аристократической Спарты.
Художественно первая часть трилогии “Агамемнон” — самое сильное произведение Эсхила. Гете считал его шедевром драматического искусства. Это относится ко всей поэтике трагедии, к движению и композиции действия и, может быть, прежде всего к мастерству ваяния монументальных драматических образов.
Наиболее убедительный из них — Клитемнестра. Еще до ее появления на сцене мы получаем представление о ее сильном, волевом характере со слов дозорного. Это “женщина с неженскими надеждами, с душой мужской” (ст. 10-11). Из его же глухих намеков у нас возникает смутная догадка о страшной тайне, которую он не может разгласить. Она гнездится в царском доме и, значит, касается правительницы Аргоса, повелевшей дозорному денно и нощно смотреть и ожидать, когда появится огневая весть о взятии Трои…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу