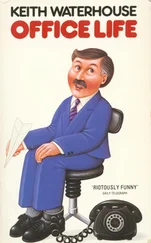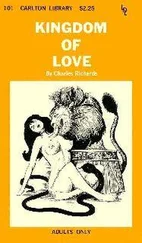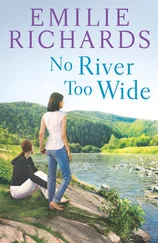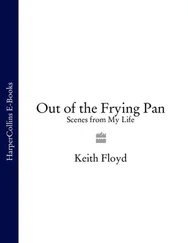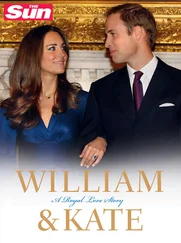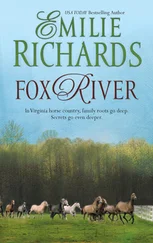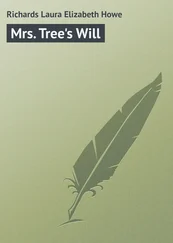Keith Richards - Life
Здесь есть возможность читать онлайн «Keith Richards - Life» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2015, Жанр: Старинная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Life
- Автор:
- Жанр:
- Год:2015
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 3
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Life: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Life»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Life — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Life», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Мне нравятся неукротимые женщины. В случае Аниты было вообще изначально понятно, что берешь себе в подруги валькирию — это которые решают, кому умереть в битве. Но тут она сорвалась с цепи, впала в буйство. Она заводилась на раз и без всякого допинга, но теперь, если допинга не было, она начинала просто сатанеть. Мы с Марлоном, бывало, жили в страхе — боялись, что она может с собой сотворить, не говоря уже о нас самих. Я иногда забирал его, и мы спускались в кухню — заныкивались там и говорили друг другу: подождем, пока мама успокоится. Она все время чем-то швырялась, могла, кстати, спокойно попасть в ребенка. Приходишь домой, а стены заляпаны кровью или вином. Уже не знаешь что она выкинет дальше. Мы сидели там и только надеялись что она не проснется и не начнет, как обычно, орать, не выскочит верещать на лестницу, как какая-нибудь Бетти Дэвис, не станет швырять в тебя всяким стеклом. Стервозности ей было не занимать. Так что нет, какое-то время в середине 1970-х с Анитой было совсем не весело. Она стала невыносима. Вела себя как сука со мной, и по отношению к Марлону тоже, да и по отношению к себе самой. И она про это знает, и я пишу это здесь, в книге. По сути дела, я думал только об одном — как бы наконец выбраться из этой ситуации, только чтобы никак не навредить детям. И я ведь любил её всем сердцем. Я не ввязываюсь в такие серьезные отношения с женщинами, если не люблю их всем сердцем. Я всегда чувствую виноватым себя, если отношения распадаются, если я не могу вытащить их из болота и все исправить. Но с Анитой исправить хоть что-нибудь было выше моих сил. Она была неудержима в своем саморазрушении. Как Гитлер — ей хотелось, чтобы все пошло прахом вместе с ней.
Я пробовал завязать кучу раз, Анита же и думать об этом не хотела. Действовала назло. Малейший намек, и у нее тут же начинался бунт на корабле — она начинала торчать даже больше, а не меньше. К домашним обязанностям в это время она уже относилась без всякого энтузиазма. Я говорил себе: какого хера мне здесь еще ловить? Ладно, все-таки она мать моих детей. Забудем. Я любил эту женщину, я бы сделал для нее что угодно. Тяжело? Ничего, я подхвачу, справлюсь сам как-нибудь.
«Hepaзбopчивaя» — это неплохое для нее определение. Меня не напрягает сказать ей это сейчас в лицо, и она это знает. Ей самой решать, что с этим делать. Я просто поступил так, как был должен. Анита еще будет гадать, как она умудрилась сама все испоганить. Да я бы до сих пор был с ней! Что-то менять — это вообще не мое, особенно когда есть дети. Мы с Анитой теперь, бывает, сидим на Рождество в компании внуков и улыбаемся друг другу рассеянно: ну что, дуреха старая, как поживаешь? Она сейчас в хорошей форме. Анита воплощенная доброта, и бабушка из неё бесподобная. Она выкарабкалась. Но все могло сложиться лучше, родная.
Большую часть времени я жил, скрываясь от Аниты в своем мире, да и у неё самой не было желания заглядывать к нам в домашнюю студию на верхнем этаже. Она в основном проводила дни в мемориальной спальне Доналда Сазерленда, где на стенах висели массивные цепи, — чисто декоративные, но из-за них у комнаты был особый садомазохистский флер. Заходили старые знакомцы: Стэш, Роберт Фрейзер. Я много общался тогда с людьми из «Монти Пайтона», с Эриком Айдлом — он особенно часто у нас болтался.
Как раз в этот период на Черч-стрит я поставил рекорд по затяжному бодрствованию на мерковском допинге — устроил себе девятидневную бессонную эпопею. Я, может, отрубался пару раз, но не больше чем на двадцать минут. Я тогда с головой ушел в отделку звука, перегонял одно-другое, подбирал ноты, писал песни и серьезно заманьячил, отгородился от мира, как монах-отшельник. Хотя в моей пещере за девять дней перебывала уйма народа. Приходили все, кого я знал в Лондоне, день за днем, но для меня это был один длинный день. Они занимались своими делами, что там у них было: спали, чистили зубы, ходили на толчок и т.д.. А я куковал у себя, писал песни, перелопачивал свои звуки и снимал со всего двойные копии. Это тогда все делалось на кассетах. Потом меня затянуло художественное оформление этикеток. На реггийной кассете, например, изобразил красивейшего льва Иуды163.
Уже пошли девятые сутки, и я, со своей точки зрении, все еще чувствовал себя прекрасно. Помню, что собирался переписать одну кассету на другую. Все настроил, пометил, какой на ней трек, и тыкнул в кнопку «Пуск». Отвернулся и тут же заснул на три десятых секунды, прямо на ногах, начал падать и долбанулся о джей-би-эловскую колонку. Это меня вернуло к реальности, но что было хреново — я ничего не видел. Сплошная пелена из крови. Я сделал три шага, прекрасно помню до сих пор, причем ни один у меня не получился, а дальше я повалился на пол и уснул прямо там. Проснулся уже с коркой на лице где-то через сутки. Восемь дней прошло, а на девятый день он пал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Life»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Life» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Life» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.