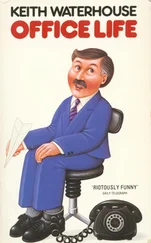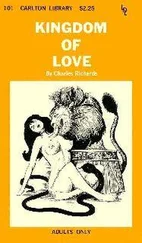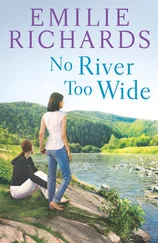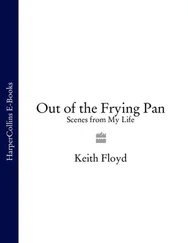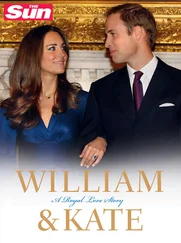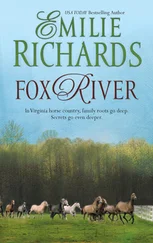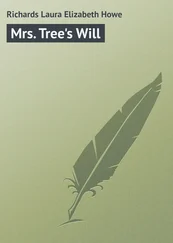Как если бы Street Fighting Man или Gimme Shelter возвели в крайнюю степень. Но, без дураков, поколение было странное. Странность в том, что я с ним вырос, но вдруг получилось, что я не участник, а наблюдатель. Эти парни росли на моих глазах, и на моих глазах многие из них умерли. Когда я впервые приехал в Штаты, я познакомился с кучей классных чуваков, совсем молодых, позаписывал их телефонные номера, а потом вернулся два или три года спустя — наберешь кого-нибудь, а он в трупном мешке, прямиком из Вьетнама. Огромное их число перемололо в порошок, как мы все знаем. Вот тогда-то меня и дернуло за яйца. Помнишь, тот классный светловолосый чувачок, гитарист офигенный, и прикольный такой, мы с ним здорово веселились? А в следующий приезд — все, нет чувачка.
Сансет-стрип в 1960-х — 1964-м, 1965-м — регулярное движение по нему было запрещено. Весь отрезок кишел людьми, и никто даже не подумает подвинуться, дать дорогу машине. Практически вне юрисдикции властей. Ты ходил туда тусовать, потереться в толпе. Я помню, как-то раз Томми Джеймс, который Tommy James and the Shondells, — блин, шесть золотых дисков, и все пустил по ветру, — так вот, я через пень-колоду пробирался на машине к Whisky a Go Go116 и подошел к Томми Джеймсу. «Здорово, чувак». — «Ты еще кто?» — «Томми Джеймс, чувак». Crimson and Clover117 цепляет меня до сих пор. Он в тот день ходил, раздавал листовки против призыва. Потому что, ясен пень, думал, что скоро его забреют, и пиздец. Это уже было время Вьетнама. Множество пацанов, которые приходили на наши концерты в первый раз, на следующие так и не вернулись. Хотя, конечно, они слушали Stones, сидя в дельте Меконга.
Политика прилипала к нам независимо от желания, один раз — совсем левым способом в виде Жана-Люка Годара, великого французского киноноватора. Почему-то ему дала по голове движуха, которая происходила в том году в Лондоне, и он захотел сделать что-то дико не похожее на все, чем занимался раньше. Он, наверное, принял немножко того, чего ему не следовало принимать как нетренированному. Хотел привести себя в нужное настроение. Если честно, по-моему, никому так и не удалось разобраться, ради какой хрени он все это затеял. По случайности фильм «Сочувствие к дьяволу» оказался еще и хроникой рождения в студии нашей одноименной песни. Из довольно раздутой фолк-телеги под Дилана после множества дублей она превратилась в рок-самбу — прошла путь от порожняка до хита через постепенное смешение ритма, которое Жан-Люк зафиксировал на всех этапах. В фильме слышен голос Джимми Миллера, который недоволен первыми дублями: «Грув-то где?» Грува не было. На пленке остались редкие инструментальные перетасовки: я играю на басу, Билл Уаймен — на маракасах» а Чарли Уоттс даже ноет «у-у» на подпевках. Как, впрочем, и Анита, и, кажется, Марианна тоже. Ну это еще ладно. Я рад, что он это заснял. Но Годар! Я просто своим глазам не верил — он выглядел как французский банковский служащий. Чего он, на фиг, вообще добивался со всем этим? Никакого продуманного плана, кроме как выбраться из Франции и зацепить кусочек лондонской тусовки. Фильм был фуфло полнейшее: девы на темзской барже118, кровь, дохлая сцена с какими-то черными братками, они же «Черные пантеры», которые перекидывают друг другу винтовки на автосвалке в Батерси. Притом что до тех пор Жан-Люк Годар выпускал очень мастерски сработанные, почти хичкоковские вещи. Не забудьте, конечно, что время на дворе стояло такое, когда прокатывало все, что угодно. Докатывалось ли оно в результате до чего-то путного — это уже другая история. То есть я хочу сказать, уж кого-кого, но с чего вдруг эта хипповская мини-революция в Англии могла заинтересовать Жана-Люка Годара? Да еще так, чтобы захотеть перевести её в художественную форму? Я так думаю, что кто-то подсунул ему чуток кислоты, и его на целый тот год понесло — под парами идейного перевозбуждения.
По крайней мере, он мог похвастаться, что запалил Оlympic Studios. «Студия один», где мы писались, раньше была кинозалом, и, чтобы рассеять свет, потолочные лампы залепили для Годара папиросной бумагой на скотче — а жарили они вовсю. И прямо посреди съемок — по-моему, на каких-то вырезанных кусках это даже можно видеть — бумага и потолок вместе с ней начинают заниматься с бешеной скоростью. Ощущение — как будто оказался в полыхающем «Гинденбурге». Все эти тяжелые осветительные конструкции начинают валиться с потолка, потому что огонь пережег крепежные тросы, вырубается свет, сыплются искры. Какое, в пизду, сочувствие к дьяволу! Валим отсюда нахуй! Это были последние дни Берлина, все в бункер. Конец фильма. Fin.
Читать дальше