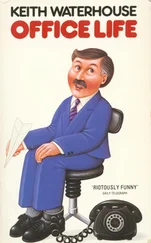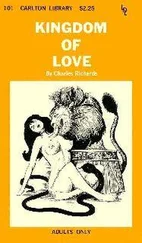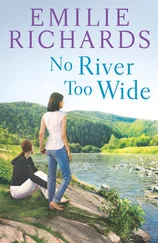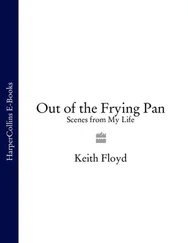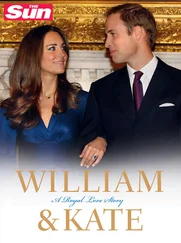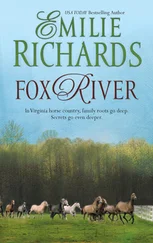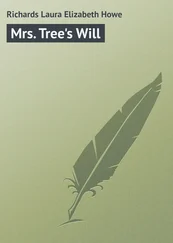Keith Richards - Life
Здесь есть возможность читать онлайн «Keith Richards - Life» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2015, Жанр: Старинная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Life
- Автор:
- Жанр:
- Год:2015
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 3
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Life: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Life»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Life — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Life», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Почти каждую неделю в округе раздавалась сирена — сбежал еще один псих. Наутро его, дрожащего, в одной ночной рубашке, находили на Дартфордской пустоши. Некоторые убегали надолго, и их можно было видеть шмыгающими в кустах. В моем детстве это было нормальной частью жизни. Ты по-прежнему думал, что идет война, потому что, когда случался побег, включали ту же самую сирену. Ребенком не понимаешь дикости окружающей обстановки. Я мог спокойно показывать людям дорогу со словами: «Пойдете мимо дурдома, только не большого, а поменьше». И на тебя смотрели, как будто ты сам из дурдома.
Единственное, что там было еще, — это уэллсовский завод по производству фейерверков — несколько отдельно стоящих сараев на болотах. Однажды ночью в 1950-е он взорвался вместе с частью работников. Это было зрелище. Выглянув в окно, я подумал, что опять началась война. Ассортимент у заводика был небогатый: обычные двухпенсовые шутихи, обычные римские свечи и обычный золотой дождик. И еще джеки-попрыгунчики. Но все местные хорошо помнят тот взрыв — стекла повыбивало на мили вокруг.
А еще у тебя есть велик. Мы с моим дружком Дейвом Гиббсом, который жил на Темпл-Хилл, решили, что будет круто приделать на заднее колесо куски картона — тогда спицы будут давать звук как у мотора. Нам стали кричать: «Убирайтесь с этой чертовой трещоткой, не видите, люди спать легли». Тогда мы укатывали на болота или в леса ближе к Темзе. Леса, кстати, были очень опасным местом. Тут водились мерзкие типы, и они могли начать на тебя орать. «Пошли на хуй!» и все такое. Поэтому мы снимали трещотки. Вообще это место притягивало дуриков, дезертиров и бродяг. Некоторые сбежавшие из Британской армии были немного похожи на тех японских солдат после капитуляции, которые думали, что война еще продолжается. Кое-кто квартировал в лесах уже по пять-шесть лет. Для жилья они использовали перелатанные трейлеры или сооружали себе избушки на деревьях. А еще они были злобными пакостными тварями. Когда меня в первый раз в жизни подстрелили, это был один из тех ублюдков; причем нехило подстрелили, пулькой из духового ружья в задницу. У нас были логовища, в том числе старый дот, пулеметное гнездо, которых было много раскидано по краю русла. Мы ходили туда и подбирали литературу, почти всегда — журналы с фотографиями девиц, где все страницы были с загнувшимися уголками.
Так вот, однажды мы пришли и внутри увидели мертвого бомжа, свернувшегося и всего покрытого мухами. Дохлый пара-фин09. Вокруг валяются непристойные картинки, использованные гондоны. Жужжат мухи. И среди всего этого окочурился пара-фин. Он пролежал там уже несколько дней, может, даже недель. Мы никому ничего не сказали. Мы ломанули оттуда на хуй, только ветер в ушах свистел.
Помню дорогу от тети Лил до детского сада10 на Уэст Хилл и как я орал во всю глотку: «Не хочу, мама, не хочу!» Выл, лягался, упирался, сопротивлялся — но шел. Они это умеют, взрослые. Без боя я не сдался, а все равно понимал, что мое дело конченое. Дорис мне сочувствовала, но не слишком: «Так в жизни бывает, сынуля, с чем-то приходится смириться’’. Помню своего двоюродного брата, сына тети Лил. Большой пацан, лет пятнадцать как минимум. Он производил на всех неизгладимое впечатление и был моим героем. Он носил клетчатую рубашку! И уходил гулять когда хотел. Кажется, его звали Редж. У них еще была дочка, кузина Кей. Она выводила меня из себя, потому что из-за своих длинных ног всегда бегала быстрее меня. Каждый раз оставляла мне почетное второе место. Она, правда, была постарше. Вместе с ней мы впервые в жизни прокатились на лошади — без седла. Нам попалась большая белая кобыла, которая не совсем понимала, что происходит, и которую на старости лет оставили доживать на пастбище — если, конечно, что-то в наших местах можно было назвать пастбищем. Я гулял с парой приятелей и кузиной Кей, мы забрались на ограду и оттуда ухитрились запрыгнуть на спину лошади. И слава богу, у нее был кроткий нрав, иначе, рвани она, я бы полетел вверх тормашками — поводьев-то у меня не было.
Я ненавидел детский сад. Я ненавидел любую школу. Дорис рассказывала, что я страшно нервничал — как-то ей пришлось нести меня домой на спине, потому меня так трясло, что я просто не мог идти. И все это еще до подкарауливания и до битья. Кормили нас тогда чем-то ужасным. Помню, в детском саду меня заставляли есть «цыганскую запеканку», от которой меня воротило. Я отказывался. Это был пирог, куда совали какую-то дрянь, не то мармелад, не то карамель. В детском саду его пробовали все, некоторым он даже нравился. Но я представлял себе десерт по-другому, а меня пичкали этим и угрожали, что накажут или оштрафуют. Прямо как у Диккенса. Я должен был выводить своей детской ручонкой триста раз «Я не буду отказываться от еды». После такого испытания — «Я, я, я, я, я, я... не, не, не, не...» — я его проглатывал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Life»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Life» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Life» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.