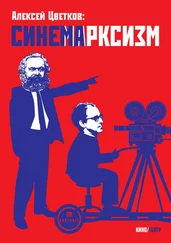Ты узнавал, нашлись ли у «Мистера 15-е» хоть какие-нибудь защитники? Это оказались некие философы, писавшие в своих брошюрах, что регулярность начатой им бессмысленной стрельбы есть негативное отражение регулярности хождения на бессмысленную работу, на бессмысленные выборы, в бессмысленную церковь. У них получалось, что как только мы перестаем находить оправдания для орнамента обыденной жизни, сразу же начинаем творить обратный орнамент — нарушения этой самой жизни. Чередуясь, эти утверждения и паузы образуют код нашей общей истории. Аргументы философов не захотела публиковать ни одна газета, имеющая лицензию и подписку.
«Гомики, гомики!» — кричит, радостно приседая, маленькая, вряд ли старше трех лет, девочка с прибрежных сугробов. Имеет в виду «гномики», про стерегущих свои лунки согбенных и неподвижных рыболовов, темнеющих повсюду на бледном льду. «Гомики, гомики!» — мама пробует ее увести, но она сейчас никого не видит, кроме «гомиков», — ближайшая фигура разгибается, повернула меховую голову на детский писк. Ты смеешься над этим. Почему? Она неправильно видит и неправильно называет, дважды ошибается. Это не гномики и не гомики, а зимние рыбаки. Смешно, потому что узнал в этой двойной ошибке себя с пятном? Может быть, пятно действует, когда не так кого-то назовешь, ненарочно обидишь что-нибудь, способное дать ответ, непреднамеренно.
Снова этот запах. Как только выйдешь на улицу. Да и в метро.
То ли лед теперь солят не солью, а чем-то новым, то ли какой-то выброс. Новости сообщают о чем угодно, только не о том, почему московские зимы пахнут теперь уксусом. «Два кислых друга, хуй и уксус», — сообщил поговорку дембельнувшийся одноклассник как пророчество перед самым началом этой зимы. Мир как уксусная губка, которую подносят к твоему носу и губам. Минус шесть холода, если верить мерцающим цифрам на крыше магазина у метро. Ты покупаешь хурму. Одну. Откусываешь прямо на морозе. Иностранец смотрит на тебя, думает: вот русский крейзи. Русский крейзи, который не знает, что хурму едят дома, разделив ножом или ковыряя ложкой, даже если кусать эту вязкую слякоть, ну не тут же, на морозе, а по месту жительства. Впрочем, почему «русский»? Возможно, он думает просто «крейзи». На тебе заграничное кожаное пальто, протертое до розовых царапин, волосы бьются по лбу, мешаясь со снегом. На шее палестинский платок, внизу армейские, «натовские» сапоги. Так может выглядеть «крейзи» в половине стран мира. Ты взвешиваешь, насколько глупо было одеться по собственной моде десятилетней давности. Скорее всего, ты вытащил униформу аутсайдера из шкафа, потому что когда носил ее, никакого пятна еще не было в твоей жизни и, ты надеешься, не было для него и причин. Не было еще здесь интернета в конце концов, хотя дело, конечно, не в нем. «Новые технологии буквально воплощают старые метафоры», — прочитал ты в случайном журнале и тоскливо стало. Потому что отвлеченная эта фраза для тебя конкретнее некуда. Конечно, пятно могло бы быть и не по сети, но только его труднее было бы заметить тогда.
Повернувшись к иностранцу, улыбаешься глянцевым счастливым рыжим ртом. Он изучает тебя глазами. Ты протягиваешь ему свою хурму с отгрызенным верхом, капающую на асфальт. Между вами метров семь. Он отворачивается, как будто тебя не видел. Ты закрываешь глаза, глотаешь, чистишь языком зубы. А когда опять видишь то, что вокруг, иностранца уже нет, мэйби он уехал в той вон, или вон в той машине.
Метелит с утра. Житель под защитой трамвайной остановки наотмашь обстукивает себе заснеженные плечи перчатками, будто в парилке веником.
Читающий твои письма с пришпиленными файлами Майкл называет Акулова «антибуржуазным» писателем. Ты переспрашиваешь, что это за громоздкий и ненужный комплимент? Майкл отвечает: для буржуазного писателя сферой интереса, героем/антигероем является человек, для антибуржуазного — общество. Буржуазный писатель ищет интересного/прекрасного/ужасного одного, а антибуржуазный захвачен интересной/прекрасной/ ужасной судьбою всех. Первый возится с единицей, второй с людьми, взятыми в их общности. Твой Акулов пишет о другом мире других людей, а не о другом человеке в этом мире. Ты ничего не отвечаешь и пишешь ему: Евич
Евич спать любил днем, а ночью — шевелиться, поэтому характер его с годами приходил в негодность, ведь требовалось по утрам добираться в офис, как когда-то в школьный класс.
Из-за этого врожденного и враждебного режима на плывущей лестнице в метро он беззастенчиво рассматривал едущих навстречу людей, всерьез не веря в них, будто они всего лишь облака из его спящего мозга. Таким же докучным сновидением он считал свою жену с ее завтраком и ее тень на стене в прихожей, непременно крестившую Евича, когда он выходил. И весь последующий день, вечер, ужин, переговоры с женой и возня с детьми виделись ему так же. Вечером вся его семья смотрела фильмы- катастрофы, взятые в прокате, и это тоже напоминало Евичу собственное ощущение жизни — полудогадаться во сне, что спишь, и не бояться, а то и развлекать себя драмами.
Читать дальше




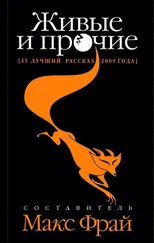


![Алексей Цветков - Синемарксизм [litres]](/books/395991/aleksej-cvetkov-sinemarksizm-litres-thumb.webp)