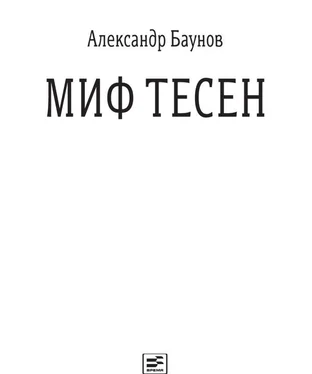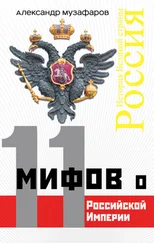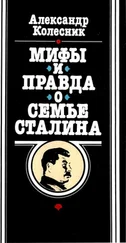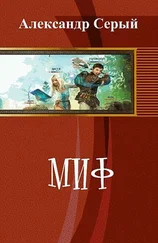А что камень становится народной святыней только сейчас, так как раз вместе с другими любимыми народом святынями — поясом Богородицы, благодатным огнем. Кто знал про пояс, пока его не привезли, что он есть такой? Даже из тех, кто стоял к нему, мало кто. Или пасхальный огонь. Сто лет назад в русской церкви знать про него никто не знал, и при Рублеве, и при Никоне, при царствующем Синоде, в плененной советской церкви праздновали, постились, разговлялись, подвизались без него. Слыхали, что есть у греков такая игрушка, — ну, им там под турками тяжело приходится. Но приехали однажды несколько новых русских православных бизнесменов и расстроились: что это, у греков есть, а у нас нет? Возьмем у греков огня, наймем самолет, привезем в Москву, развезем по городам, селам, от Калининграда до Владивостока, от Москвы до окраин, от нашего стола вашему столу. Так, чтоб теперь без огня Пасха не Пасха, и как будто и не воскресал никто. Заменим сложность и свободу христианства огнем с нашего чартера, водой в крещенской проруби, камнем.
Как полюбишь камень, береги его:
Он ведь с нашим Господом цвета одного.
А зажигалка на Гроб Господень — это как раз не страшно. Там ведь благодатный огонь и нисходит. И пусть армянский патриарх говорит, что зажигает его от лампады, пусть греческий иерусалимский патриарх называет чудо церемонией — нам камень нужен, материальная основа нашей веры. «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою». Какой Петр, такая и церковь.
ОТКУДА БЕРУТСЯ ГЕИ В ЦЕРКВИ И В ЦЕРКОВНОМ САНЕ
Всякий раз удивляюсь, когда кто-то рядом поражается, узнав, что в церкви есть геи. Да еще в сане. И не один — случайно прокрался, по недогляду, — а много. И как земля носит лицемеров? Ведь уж если обнаружил в себе такие склонности, зачем пробираться в церковь, а потом в ней прятаться: на свете есть много замечательных профессий — повар, конюх, плотник; «пахнет маляр скипидаром и краской, пахнет стекольщик оконной замазкой», зачем же обязательно ладаном? Для чего в самое пекло, туда, где ждет ложь и двойная жизнь, под вечный страх разоблачения?
Вот известный богослов разоблачил «содомское гнездо» в Казанской и иных семинариях и академиях, и все опять изумились. А я в очередной раз удивлен наивности самого этого изумления, которое выдает полное незнание движений души и психологии церковного обращения.
Есть, конечно, и то, о чем пишет Кураев: стремительные карьеры молодых придворных монахов и непотребный семинарский харассмент в отношениях учителя и ученика, даже язычником Платоном поставленный под сомнение. Но проблема гомосексуальности в церкви никак не сводится к вопросам карьеризма и лицемерия, а именно что к вопросам веры. Потому что геи в церкви, как правило, не притворившиеся верующими лицемеры, а чаще всего люди верующие, ну или как минимум в какой-то момент, обычно юности, сильно и искренне уверовавшие. Ведь шанс почувствовать себя верующим и оказаться в церкви у гомосексуального подростка гораздо выше.
Вот мальчик растет в кругу друзей, у всех общие интересы: они отдельно, девочки отдельно, всё на своем правильном месте. И вдруг этот замечательный, счастливый мир разваливается. Нет больше общей жизни, общего времени, само собой разумеющейся замкнутости друг на друге. Прежние друзья всерьез гоняются за девочками, над которыми раньше смеялись, делятся первым чувственным опытом, а одному (или немногим, но они друг про друга не знают, поэтому всегда кажется, что одному) неинтересно гоняться, нечем делиться и скучно об этом слушать. Пробует притворяться — не для того, чтобы скрыть — скрывать еще обычно нечего, а чтоб быть как все: утверждение права принадлежать кругу своих — главная мотивация мальчика этих лет, — но не получается. Притворяться тоже неинтересно. И вот, с одной стороны, веселая, грубая, здоровая, юная сексуальность бывших друзей, с другой — вопросы к миру, непонимание, чему они так радуются-то, в чем прикол, задумчивость, вынужденный, нежданный декаданс.
«Мне стыдно было перед сверстниками своей малой порочности. Я слушал их хвастовство своими преступлениями; чем они были мерзее, тем больше они хвастались собой. А я, боясь порицания, становился порочнее, и если не было проступка, в котором мог бы я сравниваться с другими, то я сочинял, что мною сделано то, чего я в действительности не делал, лишь бы меня не презирали за мою невинность и не ставили бы ни в грош за мое целомудрие». Это Августин Аврелий, отец церкви в зрелости и носитель гомосексуального опыта в молодости («Только душа моя, тянувшаяся к другой душе, не умела соблюсти меру, остановясь на светлом рубеже дружбы», «Исповедь, кн. 2, гл. 1).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу