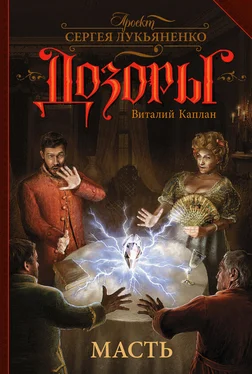– Да ты что! – Алёшка подскочил на месте, и огонёк свечи колыхнулся. – Да это ж такое нарушение Договора! Его ж за то в порошок сотрут!
– Не знаю, – вздохнул я. – Хитрый же, вывернется. Да, нарушил, но ради спасения тысяч Иных! Докажет как дважды два, что не было у него другого пути, что не мог в Инквизицию сунуться, потому что боялся, будто и там заговорщики засели…
Алёшка ничего не ответил, а мне добавить было нечего. Не видел я другого хода за дядюшку. Наверняка нет у него к семёновцам никакой злости, и уничтожит он их деловито, спокойно – точно синий мох в Сумраке.
А мне они – не синий мох, не тараканы. Да, было время, люто я на них обижался – тогда, осенью восемьдесят шестого, когда лежал на софе в сырой и холодной комнате, перебирал мысленно слова их, лица, имена…
Все они меня предали. А вернее, сочли, что я предал их – и не тем даже, что полковые деньги позорно прокутил, а что после не повинился, начал своим же друзьям лгать, выкручиваться. Все они отводили от меня взгляд, все обращались ко мне только по артикулу, все шушукались за моей спиной.
Только вот, положа руку на сердце, если бы у фортуны кости выпали иначе и вместо меня проштрафился бы кто-то из них – неужели сохранил бы я к такой шельме прежнее приятельство? Особенно если все остальные дают ему от ворот поворот? Чем я лучше их?
И все они уже через несколько часов умрут. О ком-то заплачут, получив горестную весть, жёны и матери, а за кого-то и свечку поставить будет некому.
Зато империя Российская спасётся, чудом выскользнет из расставленных силков смуты. Стоит ли она того?
Я не знал. Но чем дольше ломал над этим голову, тем яснее понимал: так не будет! Не должно так быть! Должен же найтись другой какой-то способ, и я заставлю дядюшку отступиться от жестокосердного своего решения. Потому что и у меня есть довод, от которого он не отмахнётся.
Ещё позавчера, вместе с шубой и прочими нужными вещами, принёс мне Алёшка скрытый под половицей кожаный мешочек с артефактом. И если никак иначе нельзя, то я сделаю это.
…Небо на востоке не то чтобы явно посветлело, но тамошняя тьма всё же малость отличалась от западной. Осторожный ветер слегка холодил мои щёки, и пронзительно пахло полевым разнотравьем – полынью, чабрецом, особенно же одуванчиками. Невидимые сейчас, вспыхнут они под утренним солнцем, бесчисленные его подобия в мире земном. И точно предчувствуя это, кричали птицы. Не мог я уловить, чего в этих звуках было больше – радости или страха, но одно понимал ясно: если суждено мне в скором времени кануть в глубины Сумрака, птицы эти всё так же будут кричать, и ничего для них не изменится. Для них, для напоённых солнечной силой одуванчиков, для ёлок и облаков. Мы, люди, такие и сякие, простые и Иные, можем изничтожать друг друга, лить океаны крови и жертвовать собою за други своя – а равнодушная природа будет жить своею жизнью, лишь краешек которой доступен нашим глазам. Должно быть, это правильно.
Скоро уже дозорные должны встретиться , – по Тихой Связи шепнул я Алёшке. – То бишь боевое охранение полка. Потому что по уставу положено так в походе, несмотря на мирное время. А значит, придётся нам Круг Невнимания выставить.
Этак нас дядюшка твой может заметить, коли он уже здесь , – заметил тот. – Небось всякую магию за версту чует.
Да ведь нам всяко с ним придётся перемолвиться , – объяснил я. – Не для того ж мы здесь, чтобы молча смотреть, как он ребят убивать станет. И как раз лучше бы пораньше его перехватить, пока не начал.
Думаешь, удастся остановить его? – усомнился Алёшка. – Слов он не послушает… вернее, притворится, будто внял, а сам сделает по-своему.
Тогда придётся стрелять, – вздохнул я. – Не вижу другого хода в сей партии.
А поди жалко? Всё-таки какой ни есть, а родная кровь… Сможешь ли переступить?
Не знаю … – Не хотелось мне сейчас надевать личину бесшабашного храбреца. – Но ребят ведь тоже жалко… их ещё жальче…
– Ребята, – напомнил Алёшка, – собираются Богом данную нам государыню свергать с трона, готовы и царственную кровь пролить, и народной без счёта. Это тебе как?
Страшно, – признался я. – А ты сам-то как мыслишь? Дозволить Януарию Аполлоновичу положить тут три тысячи, дабы спасти три миллиона?
Вот ты так говоришь, будто у тебя огромные такие весы, – не сразу ответил Алёшка. – Вроде как у купцов, ржаной мукой торгующих. На левой чаше семёновцы твои, на правой – немерено народу, который сегодня ещё жив, а после погибнет. И ты решаешь, которая чаша тяжелее. Но ведь так неправильно! Нечестные это весы, потому что одна чаша – это что точно будет, несомненно, а другая – что может статься, а может и нет. Один лишь Господь Бог знает обе чаши, один лишь Он может их взвесить. А ты – не Он.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу