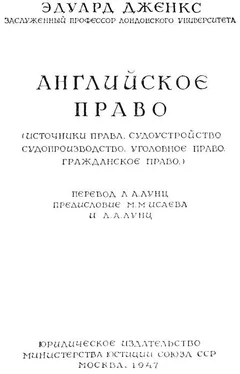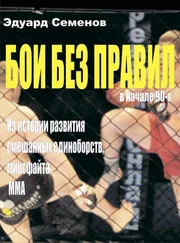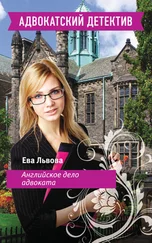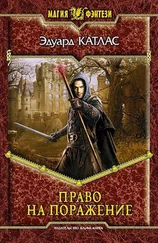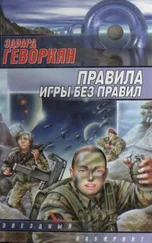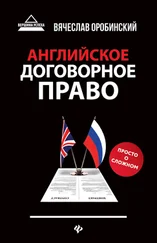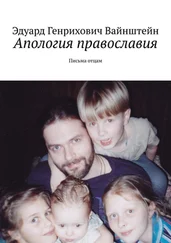Ляйбель как гражданское правонарушение существенно отличается от подобного же уголовного деяния еще и в другом отношении, именно, истинность утверждения составляет полную защиту при иске в первом случае, но не всегда представляет такую же защиту при судебном преследовании за второе. Но, конечно, под истинностью понимается соответствие истине того, что было сказано, а не просто формальная невинность употребленных слов. Прекрасную иллюстрацию указанного различия дает дело, решенное Палатой лордов около пятидесяти лет тому назад. Оно заключалось в том, что одна богатая пивоваренная фирма, недовольная, основательно или безосновательно, сотрудником одного хорошо известного банка, разослала циркулярное письмо о том, что, в отличие от своей предшествующей практики, она более не будет «принимать в виде платы чеки, выписанные на …… банк». В своем буквальном значении эти слова были безвредны, но фактически многие поняли их так, что ответчики не были уверены в платежеспособности банка, вследствие чего последовал наплыв в банк требований о возвращении вкладов с вытекающими из этого для него убытками. Банк предъявил иск о письменной клевете; вопрос о том, являлось ли циркулярное письмо клеветническим, подлежал решению присяжных, которые не могли притти к единогласному решению. Суд назначил новое рассмотрение дела, но Апелляционный суд, хотя и не единогласно, признал, что циркулярное письмо не могло быть истолковано как клевета; эту точку зрения разделила Палата лордов, хотя опять-таки среди ученых лордов, принимавших участие в вынесении решения, было особое мнение.
Важные правила о «привилегии» в основном те же для ляйбеля как гражданского правонарушения и как уголовного деяния, поэтому нет надобности их повторять.
2. Устная клевета – слэндер (slander). Это правонарушение отличается от письменной клеветы в основном тем, что оно выражается только в произнесении слов и что оно не может быть предметом уголовного преследования. Но имеется еще одно важное различие. Как общее правило, для успешности иска об устной клевете необходимо, чтобы из сказанных слов проистекал реальный убыток, часто называемый «конкретным убытком». Общее право признает в качестве исключения из этого правила только такие случаи устной клеветы, которые приписывают истцу совершение уголовного преступления, караемого телесным наказанием, или дурное поведение, неспособность к исполнению своих служебных обязанностей, или к занятию своим промыслом или профессией или (в случае, когда истец является коммерсантом) неплатежеспособность или, наконец, когда утверждают, что в момент произнесения клеветнических слов истец страдал заразительной болезнью. Кроме того, по недавно изданному закону, женщина, вчиняющая иск об устной клевете, заключающейся в утверждении об ее нецеломудренности, не должна доказывать наличия «конкретного убытка».
Уже раньше указывалось, что не требуется наличия «умысла» (malice) в обычном смысле слова для установления факта письменной или устной клеветы; но такой умысел имеет чрезвычайно важное значение при обсуждении вопроса о применении «привилегии». Человек, распространяющий письменную клевету или произносящий устно клеветническое заявление, делает это на свой собственный риск; он не может защищаться ссылкой на то, что его заявление основано на «молве» или даже, что он узнал об этих кливетнических сведениях от другого лица, как ему казалось, хорошо осведомленного. С другой стороны, первоначальный виновник в письменной или устной клевете не ответствен за дальнейшую сплетническую передачу ее другими лицами, за исключением тех случаев, когда первоначальный виновник уполномочил их на такую передачу или дал им соответствующие указания или когда лица, повторяя клевету, выполняли свой нравственный долг.
3. Злонамеренное судебное преследование (Malicious prosecution). Как мы видели при обсуждении уголовного права, ложные обвинения были одно время предметом судебного преследования как заговор. Но уже в течение столетий уголовная санкция заменена иском о возмещении ущерба, который может быть предъявлен отдельному лицу и который относится не только к ложному обвинению, но ко всем видам уголовного преследования и даже к злоупотреблению гражданским процессом, в том числе конкурсным процессом, наложением запрещения или исполнением судебных решений. Поскольку, однако, преследование за преступление составляет обязанность доброго гражданина, то истец в подобном деле должен для успеха своего иска доказать: 1) что исход обжалуемых процессуальных действий был в его пользу, 2) что они велись без «разумных и вероятных оснований» и 3) что ответчик, ведя такой процесс, руководствовался иными побуждениями, нежели желанием предать преступника правосудию. Формально, истец должен доказать, что он потерпел реальный убыток вследствие неудачного процесса. Фактически огласка, вызываемая подобными процессуальными действиями, обычно так велика, что наличие убытка для истца всегда предполагается. Злонамеренное судебное преследование представляет тот особый случай, при котором допускается возмещение ущерба в виде наказания.
Читать дальше