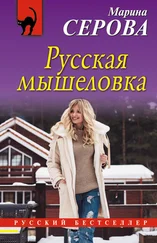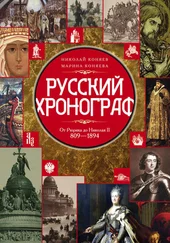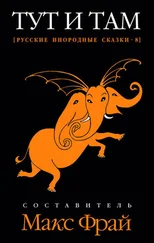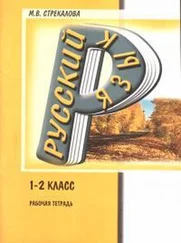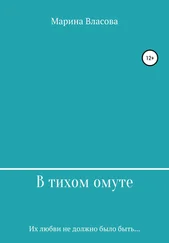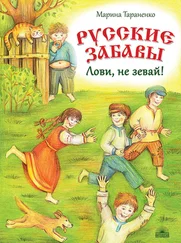Сходно со временем больших праздников характеризовалось и время весеннего, летнего («полдневного») расцвета земли, когда появлялись и становились активными существа, от которых зависело плодородие полей, созревание хлебов, – полудницы, русалки («рожь цветет – русалка сидит в хлебе»; там, где бегают русалки, трава и посевы становятся гуще).
Год и сутки в народных представлениях изоморфны. Появление практически всех мифологических существ в рассказах крестьян могло быть соотнесено с определенным годовым и суточным временем: чаще всего это период между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи, закат, сумерки, полдень, то есть переходные моменты дня, ночи; ночь, время между закатом и восходом. Водяной особенно опасен в полдень и полночь (реже – на закате) (орл., новг., волог.) ; духи луговики, полевики, колодезники выходили из нор в двенадцать дня и перед закатом (тульск.) . Русалка подстерегала «в полднях и в полночь» – «кто попадет, тот и ее» 〈Зеленин, 1916〉; «самое опасное – чёрта в полдень помянуть» (арханг.) . Жители многих районов России считали, что «лих час» (время особой активизации нечистой силы) наступал перед восходом, закатом, в полночь и в полдень. В подобных поверьях прослеживаются отголоски специфической мифологизации пространства и времени, представляемых вполне конкретно, неотделимо друг от друга.
Значительную роль в формировании подобных воззрений сыграли традиционные («без часов») способы измерения времени. «Часов-то не знали… Давно ли их стали знать! Шагами тень мерили» (сибир.) . «С солнечного восхода считается день, а с заката – ночь» (волог.) . «С детства меня удивляла способность мужиков ощущать до любых делений участки суточного времени и соразмерение их с пространством и собственным движением, – вспоминал К. С. Петров-Водкин. – Это ощущение менялось с временами года и оставалось безошибочным. 〈…〉 Зори, туманы, свойства облаков, узоры замерзающего окна, вид растопляемой печи, подъем теста – все эти бесконечно разнообразные явления говорили мужику на точном физическом языке о больших и малых событиях в природе» 〈Петров-Водкин, 1991〉 [4].
Многие сверхъестественные существа являлись не только духами природы или дома, но и духами (воплощением) «времени и места», особо влиявшими на судьбу человека. Были в крестьянских поверьях и персонификации «опасного времени в чистом виде» – полуночь, полуночник, полудённа.
В пределах опасных отрезков времени и пространства, чреватых появлением различных представителей нечистой силы, человек должен быть осмотрительным, следовать ряду правил (начиная от шутливых рекомендаций типа: «Не ходи при болоте – черт уши обколотит» – и заканчивая представлениями о том, что купающихся в полдень и без креста может утянуть водяной, а работающих или оказывающихся в пути после заката солнца – напугать и увести леший, и т. п.).
Вмешательством различных мифологических существ нередко объяснялись непредвиденные, нежелательные события, внезапные повороты в человеческой жизни, случайности.
Наряду с общеизвестными опасными пространственно-временны`ми отрезками были и неведомые, непредсказуемые, особо открытые для «игры» сверхъестественных сил. Беды, гибель людей в их границах были предопределены и не объяснялись нарушением каких-либо установленных законов, правил. Такие представления давали ответ на вопрос, почему нежелательные последствия (как и превратности человеческой судьбы) не всегда имели очевидные причины, рациональные толкования.
Эти воззрения наиболее ярко отражены в поверьях о «злых», «худых» часах, минутах и даже секундах, когда судьба человека уязвима для действия таинственных сил. Так, «сманить» лешему дана одна минута в сутки (новг., волог.) ; про́клятый «в дурной час» прямо попадает «на худой след» (новг., волог.) ; леший и удельница вредят человеку две минуты в сутки (олон.) ; опасно проклятие в «не час» – в «самые глухие полдни, то есть промежуток или, правильнее, переход от 12-го к 1-му часу» (продолжавшийся одно мгновение или меньше) (урал.) . Сказанные «не в час» (или в «не час») слова, смех нередко считались причиной заболевания. «У каждого человека в течение суток есть свой худой час. Этот час всякий может подметить, если будет внимательно следить за своей жизнью» (калуж.) ; «Час не ровён – ин лих, а ин нет» (Новг., Череп.) .
Подобные верования, по крайней мере на севере и северо-западе России, бытуют и сейчас: человек блуждает в лесу, если выйдет из дому «в худой день или час» (арханг., новг.) . Насколько существенными и давними являются эти воззрения, можно проследить по историко-литературным памятникам. Суеверия «о часах добрых и злых», днях добрых и злых, «днях лунных» излагаются и опровергаются в статьях рукописных сборников (XV в. и позже). Еще старец Филофей и Максим Грек доказывали, что «злые дни и часы Бог не творил», и осуждали тех, кто верил в силу этих дней и часов, утверждая, что над судьбой человека властен один лишь Бог 〈Гальковский, 1916〉.
Читать дальше