Наконец Стана исчезает совсем. Теперь уже Василина Игнатьевна в панике звонит мне всю ночь и пытается, нервничая и путаясь, хоть что-нибудь выяснить. Правда, утром обнаруживается, что Стана просто на даче — это неподалеку от Вырицы, такой полузабытый поселок из пятнадцати или двадцати домов. Сотовый телефон оттуда, к счастью, берет. Голос у Станы звонкий, как будто лопнет вот-вот внутри тонко натянутая струна. На даче, оказывается, сплошной кошмар: дом не протопить, все сырое, точно вынутое из воды, знобит, с утра дождь, она сидит, завернутая в ватное одеяло. Впрочем, тоже не особенно помогает. А самое неприятное — ей всю ночь, всю прошлую ночь, всю ночь казалось, что кто-то упорно рыскает по участку: вздрагивали черные листья, свет единственного фонаря, который на улице, прыгал туда-сюда. Она чуть с ума не сошла. В город тем не менее возвращаться не хочет. Нет-нет, ни за что!.. Впрочем, тут же, будто очнувшись, меняет свое решение. Если я ее встречу, то ладно, так уж и быть, она мне в городе что-то покажет. В общем, давай где-то около трех часов…
Я встречаю ее на перроне Витебского вокзала. Стана бледная, лицо ее заострилось, она и в самом деле вся мелко-мелко дрожит. Тем не менее от моего предложения сначала ее чем-нибудь отогреть отказывается категорически. Объясняет твердым голосом, что позавчера, кстати, по поручению своей богадельни, то есть “Исторического наследия”, чтоб ему провалиться к чертям, она поехала фотографировать один старый дом: ну, там нужно было иметь документальные доказательства его разрушения…
— И что?
— А вот увидишь сейчас…
Далее она умолкает. И молчит всю дорогу, точно в приступе немоты. Я уже начинаю тревожится, для Станы это не характерно, но одновременно и раздражаюсь: что за девичьи такие секреты, в конце концов? Однако настаивать на чем-либо не решаюсь. Когда Стана в таком настроении, ее лучше не теребить.
В общем, сначала мы едем на маршрутке в сторону Коломенской части, затем выходим и куда — то идем, все время почему-то ускоряя шаги — сворачиваем, сворачиваем еще раз и в результате оказываемся на улице, пересекающейся с каналом. Название ее в мелких буковках над подворотнями не разобрать, однако ясно по архитектуре застройки, что это заповедник городской старины. Если где-то и сохранился нетронутым девятнадцатый век, то только здесь, куда лощеная офисно-банковская волна еще не дошла. Я с наслаждением вдыхаю воздух прошлых столетий. Стана подозрительно щурится, но все-таки держит свои едкие замечания при себе. Мы осторожно протискиваемся в сдвинутую половинку ворот, и перед нами, точно вымышленная театральная композиция, распахивается громадный сад, ранее как бы невидимый из-за окрестных домов. Я и не подозревал, что в этом районе есть такой сад: черные от влаги стволы, мягкость палой листвы, проглатывающей шаги. Здесь, вероятно, не было никого двести лет: забвение ощущается даже в горьковатой прелости атмосферы. От настоя роскошной осени перехватывает дыхание. А тишина, сгустившаяся в мельчайшую серую взвесь, представляет собой не обыденное отсутствие звуков, которые пока не слышны, а некую самостоятельную вечную сущность, впитывающую эхо прожитых дней.
В правой же части сада, окруженное декоративной решеткой, чугунные лапы которой не могут ни от чего защитить, расположено здание наподобие кукольного дворца: башенки, витые колонны, длинные овальные окна, начинающиеся чуть ли не от земли. Все это — обветшалое, облупленное, заброшенное навсегда. Потрескавшиеся ступени ведут к высоким дверям, покрытым деревянной резьбой.
Здесь Стана наконец останавливается.
— Ну вот, теперь поднимись туда, тронь ручку, а потом — сразу назад…
— Это зачем?
— Делай, что тебя говорят…
Спорить с ней не имеет смысла. Я поднимаюсь по щербатым ступеням, составленным как бы уже из отдельных мозаичных кусков, трогаю массивную ручку, оканчивающуюся пастью змеи, и меня вдруг пронзает мгновенный холод, будто разряд электричества, выскочивший изо льда.
— Скорей, скорей!.. — Стана уже почти кричит.
Через секунду, не помню как, я оказываюсь внизу. Однако этой секунды, по-видимому, вполне достаточно. Двери, будто подталкиваемые изнутри, с тяжелым скрипом начинают приотворяться. За ними обнаруживается не вестибюль, а кромешная темнота, где не различить вообще ничего. И опять-таки это не обыденная, привычная темнота, которая возникает просто из-за отсутствия света, а темнота какая-то первобытная, самодовлеющая, чудовищная, вероятно, пребывавшая в мире тогда, когда не были еще разделены свет и мрак.
Читать дальше




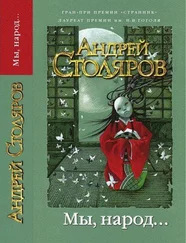


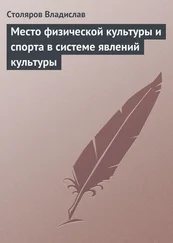

![Андрей Столяров - Боги осенью [Авторский сборник]](/books/395773/andrej-stolyarov-bogi-osenyu-avtorskij-sbornik-thumb.webp)

