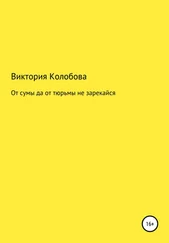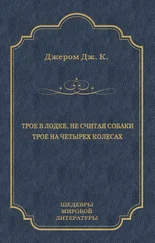Что же касается Селезнёва, то он вовсе не стремился «подставить» С. Викулова. Он лишь хотел сделать «Наш совре-менник» иным, более смелым и делал это, как он это умел, быстро. Взял и сгруппировал в одном номере сразу и повесть В. Крупина «Сороковой день», и статью В. Кожинова, и статью А. Ланщикова (по сути главу из его готовящейся книги о Чернышевском в «Современнике»), и рецензию уже опального С. Семанова. Чересчур быстро, рассудили «това-рищи». «Подставлять» С. Викулова – зачем? Ведь место главного редактора и без того было обещано. Забыл, что обе-щать не значит жениться.
И ещё одно предположение. В содержании номера, в самом выборе повести Крупина Бондарев мог разглядеть, что как редактор Селезнёв готов отдать предпочтение более молодым прозаикам, т. е. слегка подвинуть в сторону примель-кавшиеся имена занудного Н. Шундика, тяжеловесного М. Алексеева и самого Ю.Бондарева, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий, чьи «Последние залпы» в литературе как-то незаметно превратились в «Игру». А этого Юрию Васильевичу допустить, как понимаете, никак было нельзя.
А теперь совсем коротко на тему, для меня по сию пору очень туманную.
…Мы сидим у Селезнёва дома на кухне. За окном ночная темень. Жена Марина на подносе в последний раз приносит кофе с какими-то печенюшками. Юра курит. Я терплю. Мы ведём разговор о только что состоявшейся его по-ездке в Ленинград. Вернее, говорит он, а я слушаю. Лишь иногда вклиниваясь вопросами. Юра рассказывает, как на об-ратном пути в Москву на него было совершено покушение. Кем? КГБ. Но там же, в КГБ, нашлись другие люди, которые помогли и спасли, они спрятали его в другом купе поезда, всю ночь охраняли и благополучно доставили до дома. Ничего другого не нахожу, как спросить: «И что теперь, страшно?» Юра провёл рукой по своим тёмно-русым с ранней сединой волосам, и я услышал в ответ: «Не хочется так уходить из жизни. Ещё, собственно, ничего не успел сделать…»
Об отношениях Юры с «органами» мы вряд ли когда узнаем. Но они в ту пору были, мне кажется, у каждого входящего в литературу. Я даже не имею в виду прямое сотрудничество или стукачество. И речь не о постоянной телефонной про-слушке. И не о письмах за рубеж и из-за рубежа, которые шли больше месяца, откровенно вскрывались, и часть коррес-понденции куда-то исчезала. И не о собираемой информации: с кем из иностранцев когда, где и сколько раз ты встре-чался.
Помню, я какое-то время работал в Саратовском отделении Союза писателей. И как в любой области у нас был свой куратор из обкома партии и свой куратор из областного управления КГБ. Он приходил, задавал вопросы. Его интересо-вали даже члены литературного объединения при писательской организации, объединения, в котором добрая половина были графоманы. Но – кто ходит? О чём пишет? А есть ли кто из фантастов? А то собираются в Ленинском районе лю-бители фантастики. И среди них много евреев. Сегодня обсуждают и пишут фантастику, а завтра возьмут и напишут за-явление о выезде в Израиль. По молодости, по глупости я пошутил:
– Боитесь, что если уедут, у вас не будет работы?
– Вы о себе думайте, а не обо мне.
Позже я переехал в Москву. Жил, работал, писал, печатался. Встречаю как-то на улице знакомого, иногда в печати по-являлись его рецензии и обзоры. В разговоре мелькает, что он то ли работает, то ли подрабатывает консультантом-обо-зревателем в Комитете. Ну что ж, тоже работа. Когда прощались, слышу тёплый, радушный голос:
– Пиши, пиши – мы за тобой наблюдаем.
…Те кухонные посиделки у Юры были незадолго до его последней поездки в Германию, откуда он не приехал, а его до-ставили. Говорят – сердце. Может быть. Случается же стечение обстоятельств. Как это у Блока: «Нас всех подстерегает случай». Вот и на сей раз подстерёг.
Иногда я подхожу дома к книжным полкам и беру в руки (просто так) ЖЗЛовского «Достоевского», открываю титульный лист и перечитываю: «Коллеге по вредному (т. е. критическому) цеху Александру Разумихину с благодарностью, дружес-ки и сердечно. Юрий Селезнёв. 10.XII.81.» Сознание воспринимает только одно слово «по вредному цеху».
Как скажет позже Валерий Ганичев, Селезнёв был способен объединить. Окидывая взглядом сегодняшние писатель-ские ряды, я бы сказал иначе: Юра, человек-магнит, если бы жил, оказался единственным способным объединить. Если бы…
А потому не даёт покоя мысль: может, это и есть истинная причина его гибели?
Николай Машовец: « Должен знать всё! »
Читать дальше

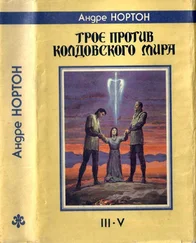
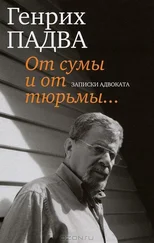
![Роберт Силверберг - Трое спасшихся [= Трое выживших; Наблюдатели]](/books/252191/robert-silverberg-troe-spasshihsya-troe-vyzhivshih-thumb.webp)
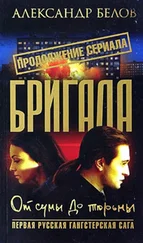
![Виктория Колобова - От сумы да от тюрьмы не зарекайся [litres самиздат]](/books/437220/viktoriya-kolobova-ot-sumy-da-ot-tyurmy-ne-zarekajs-thumb.webp)