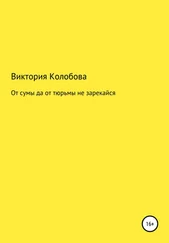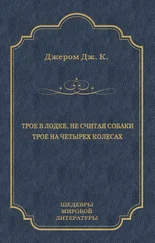Введя Вадима Валерьяновича в курс дела, я вновь повторил:
– Так за что вы меня приложили? Что это я, на ваш взгляд, внедряю в сознание молодёжи? Между прочим, моя фамилия признана «хорошей» самим Михаилом Лобановым. Да и у редактора Лидии Ивановны, смею вас заверить, фамилия тоже «хорошая».
Кожинов улыбнулся… и ничего не ответил. Не припомню другого случая, когда бы он не нашёл что сказать. (Но слово, тем более печатное, было им сказано. Меня оно не коснулось, а вот Сергей Лапин, возглавлявший в те времена телевидение, сделал соответствующую «стойку», и Лида, хоть и с «хорошей» фамилией, чудом тогда сохранила работу.)
Хочу, однако, признать, что тот эпизод с Кожиновым не помешал нашим отношениям. И когда позже я обратился к нему за помощью, он мне не отказал. На сей раз ситуация была иной. Для усиления своих позиций в редакции «Литературы в школе» мне пришла в голову идея реорганизовать редколлегию журнала. Случилось так, что как-то в одночасье умерли сразу два или три старых члена редколлегии – нужно было вводить новых. Я уговорил главного редактора и пошёл убеждать Кожинова, а потом созваниваться с Николаем Николаевичем Скатовым, предлагая им войти в редколлегию. Место окончательных переговоров определил Кожинов – ресторан Домжура (это было близко от его дома).
Николай Николаевич тогда чуть-чуть припозднился, и мы с Кожиновым затеяли разговор о планах редакции, о том, говорил я, что мне нужны в редколлегии не «свадебные генералы», а «действующие сержанты», готовые, когда надо, и материал поддержать или категорически против него возразить, и предложить нужного автора, и подыскать экстренно, если требуется, необходимую статью. Кожинов расспрашивал, каким я вижу журнал, и вдруг неожиданно для меня спросил:
– А вообще, о чём вы мечтаете? Вот сейчас вы заведующий отделом небольшого журнала, а кем хотели бы стать?
Вопрос не показался мне странным, потому как я сам его себе не раз задавал.
– Мечтаю когда-нибудь стать главным редактором «толстого» литературного журнала.
– Главным редактором журнала? А вам есть, что сказать людям?
– Знаете, я хочу быть не тем главным редактором, который говорит сам, а таким, который даёт возможность высказаться другим. Самоговорящих и без меня полно.
…Молодые критики 80-х на себе испытывали стремление доминировать в литературной политике той или иной группы, каждая из которых желала одного – убрать конкурентов. Зачастую это была не столько литературная, сколько аппаратная борьба на литературной почве. До литературы ли было в те годы? В советское время первый вопрос, который задавали друг другу критики: что слышал? какие новости? что говорят о таком-то? Обмен новостями был важнейшим источником познания литературной обстановки. Кого куда переместили, кто с кем связан, чья жена, чей сын, зять, что сократили, кто помог напечатать, почему замолчали, кто стоит за публикацией…
«Новички» осматривались, анализировали, как могли, идущую «шахматную партию» и делали свои первые ходы в литературно-критической игре. Повседневная жизнь той поры подсказывала им, что приоритетом становился не новый роман и его художественная отделка, а новая должность, позволяющая отдать сырую рукопись в редакцию толстого журнала, сотрудники которой принимались за «глубокую» редактуру, проще говоря, переписывали романы и повести советских «классиков» как с одной стороны, так и с другой. А им, критикам, оставалось лишь сделать выбор: хвалить или ругать новый роман, то есть для одних стать «нашим», для других «не нашим».
Такая уж была та литературно-критическая чересполосица. Такая уж была та Страна Литературных Критиков, куда и коренные москвичи, и многие недавние провинциалы, собравшиеся в столице, несли: одни – продажное красноречие, другие – не всегда здоровое честолюбие, третьи – желание выбиться в люди, четвёртые – не спасение собственной души, а попытку навязать очищение души всем вокруг, пятые ратовали за либеральное благородство, шестые отмечали наличие у писателя N этого самого благородства, но громили его за бездарность, седьмые являли логику при полном отсутствии логики: «Такой-то не может быть бездарным, потому что он выступал против ввода советских войск в Чехословакию»...
Ледяной айсберг партии «западников» таял от эмиграции и диссидентских посадок.
«Русская» партия являла собой классический пример террариума единомышленников.
Никто и предположить не мог, что это всё только цветочки. Ягодки преподнесли смутные 90-е, явившие корпоративный беспредел и сделавшие многих литераторов «лишними людьми». Вчерашние молодые критики оказались заложниками общего российского бардака. В том числе литературного. Критику перестали читать. Писать для двух-трёх приятелей стало неинтересно.
Читать дальше

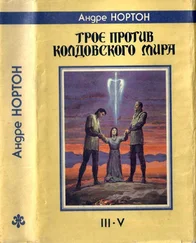
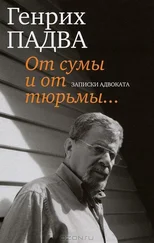
![Роберт Силверберг - Трое спасшихся [= Трое выживших; Наблюдатели]](/books/252191/robert-silverberg-troe-spasshihsya-troe-vyzhivshih-thumb.webp)
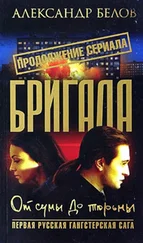
![Виктория Колобова - От сумы да от тюрьмы не зарекайся [litres самиздат]](/books/437220/viktoriya-kolobova-ot-sumy-da-ot-tyurmy-ne-zarekajs-thumb.webp)