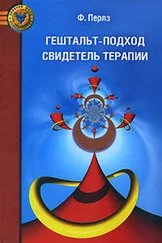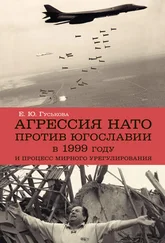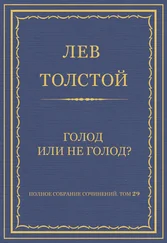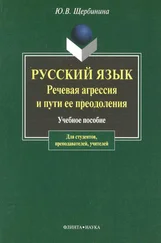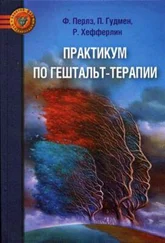Фредерик Перлз - Эго, голод и агрессия
Здесь есть возможность читать онлайн «Фредерик Перлз - Эго, голод и агрессия» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Эго, голод и агрессия
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Эго, голод и агрессия: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Эго, голод и агрессия»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Эго, голод и агрессия — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Эго, голод и агрессия», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Если естественное выражение чувств ребенка встречается в штыки, гордость оборачивается стыдом. Хотя стыд подразумевает склонность к слиянию с фоном, исчезновению, такого не происходит; изоляция от среды осуществляется символическим путем: лицо и другие части тела закрываются (краской стыда или руками), ребенок отворачивается, но, словно поддавшись каким-то чарам, стоит на месте как приклеенный. Психологический аспект этого явления особенно интересен. В соответствии с сильным чувством разоблаченности кровь приливает к действительно обнаженным частям тела (щекам, шее и т.д.) вместо того, чтобы направляться к тем частям тела, которые провоцируют появление чувства стыда (мозг: онемение, неспособность мыслить, пустота в голове, головокружение; мышцы: неуклюжесть, невозможность двигаться; гениталии: омертвелость, фригидность вместо ощущений и эрекции).
Так как наши способы выражения многообразны, мы способны испытывать стыд почти за все. Вообразите замешательство типичной крестьянской девушки, одетой в свое лучшее воскресное платье, под презрительным взором светской модницы. С подлинной наивностью, безо всякого желания оказаться на первом плане, она даже не испытает смущения.
Для ребенка, построившего в саду замок, очень важно, заинтересуется ли и оценит ли его мама или станет кричать: «Посмотри, какой ты грязный! Что за беспорядок ты наделал! Тебе должно быть стыдно за себя!» Этот последний часто слышимый упрек принимает особенное значение для воспитания, поскольку не ограничивает вину каким-либо отдельным действием или положением, но осуждает и клеймит личность в целом.
Я назвал стыд и смущение предателями организма. Вместо того, чтобы способствовать здоровому функционированию организма, они препятствуют ему и тормозят его. Стыд и смущение (и отвращение) — те неприятные эмоции, которых мы стараемся избегать. В первую очередь они — орудия подавления, «опосредующие способы», образуемые неврозом48. Также как предатели идентифицируют себя с врагом, а не со своим собственным народом, так и смущение со стыдом, застенчивостью и страхом ограничивают экспрессию индивида. Выражение чувств становится их подавлением.
Теперь становится очевидной ценность следования основному аналитическому правилу. Способность выдерживать смущение выносит подавленный материал на поверхность, ведет к появлению уверенности и способности к контакту и помогает пациенту принять ранее отвергнутый материал в результате поразительно облегчающего жизнь открытия, что факты, вызвавшие смущение, могут быть не таким уж и криминалом и способны даже вызвать интерес у аналитика. Но если пациент подавляет свое смущение вместо того, чтобы выражать его, у него появятся бесстыдные, нахальные ухватки, и он начнет «пускать пыль в глаза» (без настоящей уверенности). Бесстыдство ведет к потере контакта. Потакание смущению (подавление) приводит к лицемерию и чувству вины. Поэтому аналитик просто обязан довести до сознания пациента, что ни при каких обстоятельствах тот не должен заставлять себя говорить что-либо ценой подавления смущения, стыда, страха или отвращения. Опасность подавления либо сопротивляющихся эмоций, либо действий, вызывающих неприятную эмоцию, должна постоянно держаться в уме наряду с требованием, что для анализа необходима завершенная ситуация; эмоции сопротивления плюс подавленные действия.
Взяв за пример агорафобию, мы видим, что наши пациенты избегают пересекать улицу и позволяют своему страху диктовать им, что делать или, скорее, чего не делать; или иначе, если совесть или окружающие требуют от них самоконтроля, они начнут подавлять свой страх. Они могут преуспеть в этом, лишь становясь напряженными и онемелыми, еще более усложняя тем самым свою невротическую позицию.
Успешное лечение фобии требует от пациента сопротивляемости как страху, так и побуждению действовать. Я разработал метод лечения, сравнимый с «заходом на посадку» в авиации. Студент летного училища делает несколько заходов до тех пор, пока ситуация не оказывается благоприятствующей посадке. Подобным же образом каждая новая попытка пациента пересечь улицу выносит на поверхность какую-то долю сопротивления, ту долю, которая должна пройти анализ и трансформироваться в адекватную функцию Эго, и так должно происходить до тех пор, пока ситуация не окажется подходящей для пересечения улицы. Давайте предположим, что агорафобия протекает на фоне бессознательного желания совершить самоубийство. Пониженная бдительность, возникающая вследствие онемения, способна лишь увеличить шансы пациента быть задавленным при «форсированном» пересечении улицы. Если мы принципиально оставим в покое его страх и заставим пациента сперва осознать, что он боится не улицы самой по себе, но транспорта; если мы позволим ему преодолеть его преувеличенный страх машин, мы поможем ему сделать первый шаг на пути к нормальности. Позднее мы возможно обнаружим за его страхом быть убитым желание убить кого-то другого и то, что это желание настолько сильно, что его страх, очевидно, оправдан.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Эго, голод и агрессия»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Эго, голод и агрессия» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Эго, голод и агрессия» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.