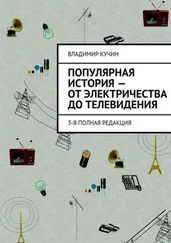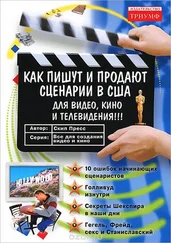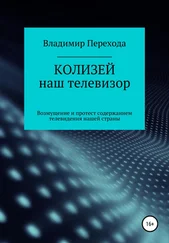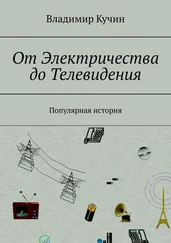Его признало общество таким, каким он был. А был он не аскетом, не подвижником — умел любить и воплощать жизнь в самых глубоких и
самых простых ее проявлениях. И сейчас сиделка несет поднос с жидким чаем и яйцо всмятку, а лежащий в постели вспоминает: «Антрекот с зеленым салатом, немножко выдержанного бри, полбутылки рислинга к первому и бутылка шамберти к антрекоту» — это ведь тоже входит непременно в «Праздник, который всегда с тобой».
Праздник подлинной жизни, которой принадлежит Саймон Кендл Пристли и Кольцова.
Конец жизни, прощание с жизнью — вечная тема литературы, но почти не тема театра. То есть гибель, смерть, изображаются в театре с самых ранних его времен, с трагедий Эсхила. В спектаклях «Глобуса» слуги деловито уносили со сцены не одного заколотого, отравленного ядом, пронзенного кинжалом соперника; в огромном количестве стрелялись и застреливали других персонажи драматургии XIX века. Но театральная смерть почти всегда лишь сюжетное завершение, действенный миг — выстрел, укол шпаги, кубок с ядом, поднесенный к губам. Сценическая смерть почти всегда мгновенна, внезапна, хотя за ней могут следовать картины шествий и митингов со знаменами и речами, хватающими за душу. На сцене обычно играют героев во цвете сил, сраженных мгновенной смертью, — театр не любит людей, долго уходящих из жизни; Маргарита Готье была прекрасна потому, что смерть ее была очень красивой и определялась не столько реальной чахоткой, сколько разбитым сердцем. Побеждали всегда актрисы, воспевавшие эту красоту ухода из жизни, хотя некоторые и рисковали точно передавать картину болезни. К таким исполнениям, иногда очень сильным, потрясавшим зрителей, прочно и справедливо относился эпитет: «клиническая картина», «физиологический оттенок»...
От соблазнов этой «клиники» не удержался, скажем, Павел Орленев, представлявший в одной роли агонизирующего и умирающего человека так натурально (искаженное лицо, остекленевшие глаза), что в зале раздавались крики ужаса и дам выносили в истерике. Кино — а вслед за ним и телевидение — может показать то, что недоступно театру. Может вести действие в ином отсчете времени, приблизить к нам лицо человека и сосредоточить внимание на этом лице, на взгляде, улыбке, движении бровей. «Когда он улыбается, лицо его становится неотразимо привлекательным»,— вслед за Пристли можем сказать мы о Саймоне — Кольцове. Доживая последние дни и мгновения, он не выключен из жизни, как Андрей Болконский —
напротив, привязан к ней, благодарен ей. Лишенный начисто сентиментальности, всегда иронично трезвый, почти циничный, художник верит в то, что жизнь прекрасна.
Саймон Кендл Кольцова —
трезвый человек, знающий напрасность многих усилий, а тем более слов, направленных к объединению людей, Саймон Кендл Кольцова — человек, верящий в необходимость усилий, направленных к объединению людей. Он живет на экране всеми мелочами тех дней, которые ему отпущены, он видит все подробности вещей, которые еще оставлены ему жизнью, и зорко всматривается в лица немногих людей, его окружающих: внучки, провинциального доктора, сиделки, подростка
-
слуги. Только старшего сына, единственного преуспевшего, единственного вроде бы поддерживающего «реноме» семьи, Кендл не относит к людям.
Среди немногих оставшихся ему вещей — раскрашенная картинка, изображающая улыбающуюся девицу, да патетическое изречение на стене
возле постели: «Бог есть любовь». И глаза человека все останавливаются на этой прописи, которую слышал он с детства. «Значит, каждый предмет вселенной — это любовь? Она дешевле навоза, так ее много. И люди считают — незачем им беспокоиться, незачем любить, незачем самим созидать любовь. Если бы мы сказали, что бог есть могущество, но хочет быть любовью, мы вели бы себя разумнее».
Такая длинная речь не дается даром больному: он слабеет на наших глазах в продолжение того экранного времени, которое ему отпущено, но в этом изображении болезни и смерти актером нет и следа «клиники», стремления как бы проиллюстрировать болезнь — может быть, потому, что Кольцов играет не дряхлость, но бодрость, не угасание мысли, но ясность мысли, не отстраненность от жизни, но преданность ей и веру в нее.
Пристли не приписывает Саймону Кендлу ни богоборчества, ни атеизма, хотя в бога он вряд ли верит, во всяком случае не думает о нем в конце жизни. Он не боится, не просит снисхождения и даже отсрочки, он помнит трезво и отчетливо все, что было в его прошлом: отца
Читать дальше