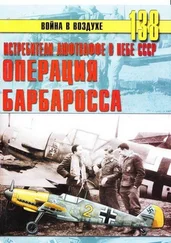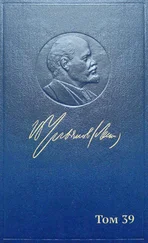Никаких таких комплексов у Чехова, душевно здорового человека, не было. Как однажды он написал в одном письме: я сам из мужиков, и мужицкими добродетелями меня не удивишь. Ну и уж тем более пороками, добавим мы.
Еще выдвигают тот аргумент, что Чехов, мол, поехал на Сахалин за материалом, в надежде тематического расширения своего творчества. Но ведь Сахалин никак или в самой малой степени обогатил его в этом отношении. Можно указать разве что на финальную главу рассказа "Убийство", в которой герои его отбывают наказание на Сахалине. С некоторой натяжкой сюда можно отнести рассказ "В ссылке", но в нем как раз о Сахалине ничего нет, это ссылка вообще, сибирская.
Чтобы понять сахалинский эпизод в жизни Чехова, нужно начать издалека - с первых его шагов на поприще литературы.
Впрочем, тут же и поправка требуется. Первые шаги Чехова в писании и печатании как раз не имели почти никакого отношения если не к литературе - всё-таки то, что пишется и печатается, это литература, - то к его самосознанию как писателя. Это очень хорошо известно и зафиксировано самим Чеховым в его ответе на знаменитое письмо Григоровича, посчитавшего за долг объяснить молодому литератору, каким незаурядным талантом он обладает. До сих пор я относился к литературе зря, писал Чехов, то есть спустя рукава, несерьезно. Это было для него то, что позднее стали называть халтура. Семья в Москве бедствовала и Антошины юморески, которые охотно брали мелкие журналы, служили весомым подспорьем в семейном бюджете. Именно Антошины: кто не помнит чеховского псевдонима: Антоша Чехонте. Если и есть у меня талант, писал Чехов Григоровичу, то, видит Бог, я не уважал его. Но талант брал свое, и Чехов начал писать серьезно и до Григоровича, почему, собственно, он и обратил на него внимание и рекомендовал Суворину, в газете которого Чехов начал зарабатывать уже ощутимые деньги. Если можно так выразиться, сбивала его с писательского толка и медицина - диплом врача, который он получил в 1884 году. Кому неизвестны много раз повторявшиеся Чеховым слова: медицина для меня жена, а литература любовница. Как бы там ни было, но к тому моменту, когда Чехов засел за первое свое большое произведение повесть "Степь" он самоопределился - именно в качестве писателя.
И вот тут произошло нечто, мало отразившееся и скупо выраженное в чеховских биографических материалах, а именно в его знаменитых письмах. У нас есть только косвенные свидетельства того, что произошло с Чеховым, когда он вошел в писательскую, вообще в интеллигентскую среду. Произошло то, что она ему резко не понравилась. Конфликт с интеллигенцией произошел у Чехова задолго до достопамятного провала его "Чайки", когда он понял, как писал Суворину, что успех не имела не столько его пьеса, сколько его личность.
Чехов ракетой взлетел на литературные небеса, засиял в них новой звездой. Естественно, ему стали люто завидовать. Завидовали и тому, что он очутился около самой желанной кормушки - в богатой суворинской газете "Новое время". Имела хождение чудовищная эпиграмма: "Какой большой талант у Чехова Антоши: Он ловко подает Суворину галоши". Самомалейшее знание о Чехове позволяет мгновенно увидеть тут гнусную клевету. Произошло, однако, то, что Чехов печатался в "Новом времени" гораздо реже, чем мог бы. Но это всё выразительные, конечно, но только детали. Гораздо важнее другое: не нравы литературной среды оттолкнули Чехова, но самый тип русского интеллигента.
Слишком хорошо известны слова Чехова, которые кем-то (то ли Гершензоном, то ли Франком) были процитированы в сборнике "Вехи": о русской интеллигенции, ленивой, вялой, непатриотичной, посещающей пятидесятикопеечные бордели. Не будем приводить их полностью, это затасканная цитата; обратим только внимание на то, что в числе пороков интеллигенции указывается ее антипатриотичность. Это очень важно: Чехову не было присуще либералистское априори, нерассуждающая враждебность к государству и власти, вообще к родной стране, законным сыном которой он не мог себя не чувствовать. Чехов происходил из низов общества (отец - купец третьей гильдии), а в этой среде не интересовались политикой и не испытывали необходимости изменения государственного строя. Таких чувств не возникло у Чехова и позднее, когда он вошел в московскую студенческую среду, а потом и в литературную. То, что цензура херила осторожную сатиру в журнале Лейкина, которого он был главным сотрудником, тоже не сильно волновало Чехова. Это был для него вопрос непринципиальный.
Читать дальше