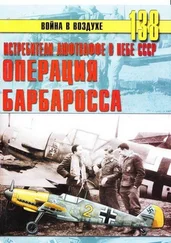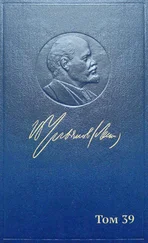Очередь за Сартром. Я далеко не сегодня его раскусил. Важнейшее его сочинение не "Бытие и Ничто" и не "Критика диалектического разума", а пьеса "За закрытой дверью". В пьесе действуют мужчина и две женщины. Между ними устанавливаются определенные сексуальные тяготения, но ни одна из пар не может их реализовать в присутствии третьего или третьей. Тогда и следует знаменитая апофегма: ад - это другие. Не нужно большого ума, чтобы сообразить: преодоление ада, то есть обретение Рая, - это включение третьего в коллективное действо. Три - тайна общественности, как говорила Зинаида Гиппиус. А уже исходя из этой, что называется, первоначальной философской интуиции Сартра, можете анализировать как "Критику диалектического разума", так и коммунистические его увлечения. Я бы и сам это сделал, да времени нет.
Теперь законнейший вопрос: а при чем тут Америка? В ней, как известно, коммунизма строить не собираются. Вот и надо говорить не о общественно-политическом или экономическом строе, а о психологии человечества, как индивидуальной, так и соборной. Кто будет спорить с тем, что при всем ее богатстве и благоустроенности жизнь в Америке далеко не рай? А в рай всякому хочется. "Заглянем в рай", как говорила одна дамочка у Набокова. Долгий опыт человечества, давший уже созреть некоторым плодам, доказывает, что подобные стремления не нужно сдерживать, а, наоборот, освобождать, как и советует осторожно Верховный Судья Антонин Скалия. Неутоленные желания порождают чуму, как знали еще древние. На первичных инстинктах не следует возводить никаких идеологических надстроек. Идеология - имя лжи. Идеология - это превращенное, то есть извращенное, сознание, говорил Маркс, когда протрезвлялся. Идеология дает благородные и ложные в глубине мотивировки для превращенных форм всё того же удовлетворения, для символической реализации потаенных желаний. Вы убийца не потому, что вы садист, а потому что убиваете во имя правого дела. Желая тотального освобождения, вы избираете смерть: вот сущность коммунизма в нескольких словах.
Американские нынешние моды потому, так сказать, невинны, что выступают в собственной своей форме, не маскируясь какими-либо сублимациями. Это уже не темный инстинкт, приводящий черт знает к чему, а осознанная игра. А игра всегда свободна и культурна.
Source URL: http://www.svoboda.org/articleprintview/24202898.html
* * *
[О любви и проституции] - [Радио Свобода © 2013]
Мне случилось прочитать подряд две книги, принадлежащие перу авторов одного литературного поколения, да еще самих связанных узами идейной солидарности, общей работы и личной дружбы. Это "Книга прощаний" Станислава Рассадина и "Случай Эренбурга" Бенедикта Сарнова. Обе 2004 года издания, в одном издательстве вышли - "Текст". Книги внешне - по прочтении оказалось, что и внутренне, - одна от другой неотличимы; правда, Рассадину дали тираж четыре с половиной тысячи, а Сарнову - три. Значит ли это, что Эренбург - не та нынче тема, чтоб конкурировать тиражностью с прочими? Когда-то было не так. Да, впрочем, когда-то всё было не так. Обе книги тем и интересны, что описывают прошедшую, ушедшую в архив, чуть ли не сгинувшую во тьме эпоху. Эпоха эта - советские шестидесятые годы: сравнительно недолгое - а с другой стороны поглядеть, так и достаточно долгое - время либерального, вернее, либеральничающего коммунизма, помягчевшей советской власти. Как всегда, исторические периоды с хронологией особенно не считаются: этот период длился не десятилетие, как ему полагалось бы, а пятнадцать лет: с 1953 до 1968-й. Вехи: смерть Сталина и конец пресловутой "оттепели" в 1968 году с подавлением советскими танками так называемой Пражской весны - одной из "бархатных революций" самого корректного славянского народа.
Интересно, что один из обсуждаемых сегодня авторов дал этой эпохе, вернее людям этого времени, устоявшееся название: как сейчас вижу страницу журнала "Юность" с заголовком статьи Станислава Рассадина: "Шестидесятники" и с портретом автора, как в этом журнале водилось. А второй автор, Сарнов, пишет об Эренбурге, назвавшем этот послесталинский период "оттепелью" в одноименной повести, появившейся в журнале "Знамя" в 1954 году: оперативно откликнулся товарищ. Правда, за эту оперативность Эренбургу и попало. С этим связан некий микроэпизод того времени. На повесть ополчился Константин Симонов, тогдашний главный редактор Литературной Газеты, в статье, написанной собственноручно и подробно. А ведь Эренбург с Симоновым были если не друзьями, то, безусловно, близкими людьми, что называется, "корешами". Близость распространялась достаточно далеко. Эренбург пишет в мемуарах, что однажды загулявшего Симонова жена отыскивала по всей Москве и среди ночи послала к Эренбургу симоновского шофера. А время было - начало пятидесятых годов, когда такой ночной звонок мог означать только то, что означал: пришли кромешники, потащут в ад. Как видим, у Эренбурга хватало поводов злиться на Симонова. А тут, в 54-м, он вообще всю игру задумал провалить: дискредитировать пробный шар, мастер пускать которые был Эренбург на предмет понюхать погоду: можно вылезать из ковчега или подождать? Как выяснилось - можно, но Симонов явно недооценил новых возможностей, перестраховался, струсил. Он и сам потом признавался: думал, что после Сталина будет не лучше, а хуже. Как бы там ни было, дружба Эренбурга с Симоновым на этом кончилась.
Читать дальше