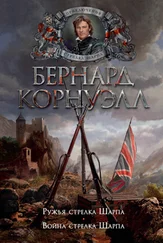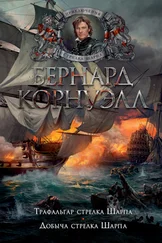Unknown - РОТА СТРЕЛКА ШАРПА
Здесь есть возможность читать онлайн «Unknown - РОТА СТРЕЛКА ШАРПА» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:РОТА СТРЕЛКА ШАРПА
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
РОТА СТРЕЛКА ШАРПА: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «РОТА СТРЕЛКА ШАРПА»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
РОТА СТРЕЛКА ШАРПА — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «РОТА СТРЕЛКА ШАРПА», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
По крайней мере, так пишут хронисты, а историкам остаётся лишь верить им на слово, потому что точное место сражения под Пуатье, как и многие другие поля средневековых битв, неизвестно. Привязать его топографически к конкретной точке в окрестностях Пуатье невозможно. Живую изгородь, каким бы непроходимым препятствием она ни стала для французов, не пощадило время. Через Миоссон в те годы существовало два брода (в книге упомянут только один), поди скажи теперь, который из них был свидетелем сечи? Большинство специалистов склонны думать, что это был Гюэ-де-л’Омм, ближайший к деревне и монастырю Нуайе. Сумасшедший наскок ста шестидесяти конников, из которых сто были лучниками, под командованием капталя де Бюша имел место в действительности, но с какой стороны? Они обошли французов с севера (точка зрения, которая милее мне) или с юга? И всё вновь упирается в допущения. Но беда допущений в том, что чаще всего они, плохо отвечая на загадки старые, порождают, в свою очередь, огромное количество новых. Допустим, принц Уэльский намеревался отступать через брод Гюэ-де-л’Омм (ныне застроенный мостом) на второстепенной дороге западнее современного селения Нуайе-Мопертюи. Это указывает нам позицию принца севернее брода, мимо современного памятника, посвящённого битве, и ставит перед вопросом вопросов: откуда принца атаковали французы? Историки не один год ломают копья на этот счёт. Сам я обычно перед написанием романа определяюсь с географией интересующего меня сражения по картам и документам в кабинете, чтобы затем, выехав на место описываемых событий, с удовлетворением убедиться в собственной правоте. Пуатье мне преподнесло сюрприз. По картам подходы к английскому холму выглядят проще с запада. На месте же выяснилось, что нет. Учитывая то, что французы и англичане шли параллельно друг другу перед тем, как французы приблизились для сражения, атака с севера вероятнее (хотя бы потому, что на том направлении проще маневрировать большими группами воинов). А тем из читателей, кто хочет сам разобраться в загадках географии Пуатье, с удовольствием рекомендую книгу Питера Хоскинса «По следам Чёрного принца», вышедшую в издательстве «Бойделл Пресс» в 2011 году.
Скудость сведений по месту битвы отчасти искупается достаточно подробной информацией по её ходу. Сражение началось с двух кавалерийских атак на фланги англичан. Оба наскока были отражены лучниками. Атака на брод была замедлена подтопленным грунтом, что дало английским стрелкам время оправиться от изумления, вызванного неуязвимостью бронированных коней французов, и перебить врага, продолжив обстрел с боков. Вот тут-то наивно расслабившегося исследователя и поджидает очередной «привет от Пуатье». Нисколько не сомневаясь в сметливости потомков, оксфордский хронист Джеффри ле Бейкер пишет, что стрелы, де, ломались при попадании в броню или свечкой уходили в небо. А что именно ломалось-то? Древки или наконечники? Равно возможно и первое, и второе. Факт, что изготовители стрел порой плутовали, общеизвестен. Как бы то ни было, благодаря сообразительности (которой так не хватает нам, потомкам, при чтении хроник) лучников конные атаки французам успеха не принесли. Лорд Дуглас, приволокший с собой на французскую землю две сотни бойцов, получил несколько ран у брода (или, согласно другим источникам, у брода остался невредим, а увечья заработал во время атаки с баталией дофина; или вовсе сбежал с поля боя). Баталия под предводительством умного и нескладного Карла двинулась на холм. Англо-гасконское воинство стояло насмерть, а французам мешала навалиться на них изгородь ( Не три ха-ха, между прочим. В конце Второй Мировой нормандские живые изгороди серьёзно ограничивали манёвр танковых групп, как союзнических, так и немецких. Прим.пер. ), и после двух часов боя дофин отступил. Казалось бы, настал черёд вступить в дело второй баталии, но возглавлявший её брат короля, герцог Орлеанский, вместо этого дал дёру. Почему? Очередной «привет Пуатье». Причины, по которым король приказал удалиться Карлу, понятны. Монарх не желал подвергать исполнившего свой долг наследника дополнительному риску, но герцог Орлеанский-то с какой радости ушёл? Но ушёл и увёл с собой вторую баталию. Две трети французского войска словно корова языком слизала, и королю ничего не оставалось, как попытать счастья с оставшимися у него солдатами. Затем в тыл ударил неустрашимый капталь, битва закончилась, началась бойня. В книге отступающих французов режут на Ле-Шамп-д’Александр. Некоторые учёные относят основное место резни к топкой пойме Миоссона, но мне это представляется менее вероятным. С поля боя французам бежать было удобнее именно на Ле-Шамп-д’Александр, и, скорее всего, именно там был взят плен король вместе с его младшим сыном. На предмет выяснения того, чьими пленниками сиятельные особы будут считаться, между победителями завязалась драка, прекратило которую лишь появление герцога Уорвика и сэра Реджинальда Кобхэма, сопроводивших «Жана ле Бона» с сыном к принцу Уэльскому.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «РОТА СТРЕЛКА ШАРПА»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «РОТА СТРЕЛКА ШАРПА» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «РОТА СТРЕЛКА ШАРПА» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
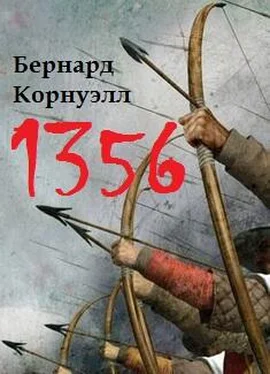
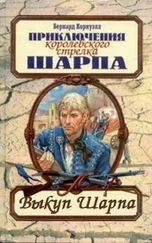
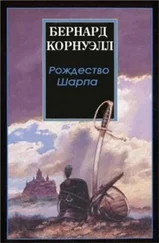


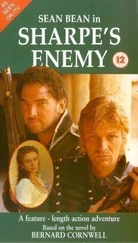
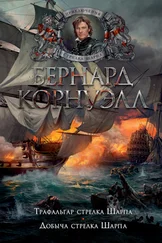

![Бернард Корнуэлл - Ружья стрелка Шарпа. Война стрелка Шарпа [сборник]](/books/432995/bernard-kornuell-ruzhya-strelka-sharpa-vojna-strelk-thumb.webp)