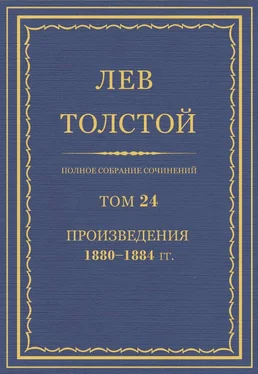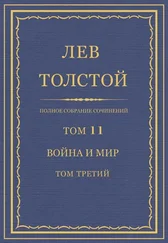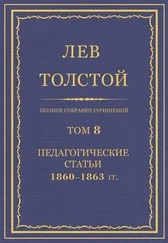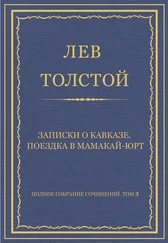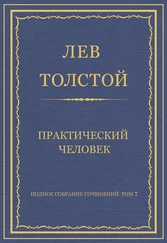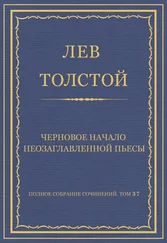Все эти различия, повторяем, касаются лишь второстепенных подробностей. Мы остановимся теперь на самой сущности этого повествования, единственного в своем роде не только в Евангелиях, но и во всей Библии. Прежде всего дадим себе отчет в том смысле, какой мы должны связывать с словом искушение . В библейском языке (Ветхого и Нового Завета) слово это употребляется в трех различных значениях: во-1-х, говорится о человеке, что он искушает Бога, когда он хочет вызвать нетерпеливыми требованиями какое-либо проявление его могущества, напр., чуда; так как всякое требование такого рода проистекает от недостатка веры или преданности воле Божией, то писание признает его за грех; во-2-х, говорит о Боге, что он искушает людей, когда он подвергает веру их испытанию бедами и напастями разного рода. Так как здесь цель и средства одинаково спасительны, то уже апостолы сознавали непригодность слова искушения (Иакова I, 13), и употребление его в этом смысле всё более и более оставляют в современном языке, заменяя его словом испытание; наконец, в-3-х, человек искушает другого, когда пытается вовлечь его в грех. События, передаваемые здесь, конечно, не могут быть отнесены ни к этой третьей категории, ни к первой. Искуситель не обращается к могуществу Иисуса, чтобы побудить его к совершению чудес на пользу себе; здесь есть скорее нравственное столкновение святой воли Христа с извращенными стремлениями диавола.
Признавая это в общем, мы прежде всего заметим, что три повествователя во всяком случае рассказывают о событии внешнем и осязуемом: о встречах и беседах между двумя различными лицами, из коих одно было сам сатана, явившийся видимым образом с целью вовлечь Иисуса в деяния, от которых тот решительно отказался. Сначала сатана приступает к Иисусу, когда тот чудесным образом провел сорок дней без всякой пищи и когда вновь дали почувствовать себя его физические потребности, и предлагает удовлетворить эти потребности с помощью чуда. Иисус отказывается от этого, ссылаясь на место из писаний (Втор. VIII, 3), которое позволяет ему надеяться на поддержание себя и находить средства к поддержанию себя даже там, где при обыкновенных условиях он терпел бы лишения. Бог, говорит он, может напитать меня так, как ему угодно: стоит ему только сказать, повелеть, и всё сделается без всякого нарушения обычного порядка явлений (неправильно переводят: человек может жить от всего (от всего съедобного), созданного Богом; или: я могу питаться от слова Божьего, духовно, и не имею нужды в пище материальной). Текст Луки, восстановленный по наиболее древним рукописям, не заключает в себе этого выражения; включенное в ходячие списки выражение, — всякое слово Божие, — не устанавливает правдоподобного смысла.
Второе искушение состояло в приглашении Иисуса подвергнуться умышленно неминуемой опасности, бросившись с высоты здания, в убеждении или в надежде, что Бог чудесным образом предохранит его от всякого несчастия. Мы не знаем, какое именно место обозначают словом, которое мы наудачу переводим словом крыло храма; сомнительно, чтобы они говорили о самом святилище, на кровлю которого не было входа. Возможно, что речь идет здесь о каком-нибудь другом здании, заключавшемся в церковной ограде и находившемся в восточной стороне, где гора Мориа господствует над Кедронской долиной, выступая утесом. Искуситель думал склонить к тому Иисуса, напомнив ему слова псалма (ХС, 11—12), в буквальном истолковании. Иисус ответил ему другим местом (Втор. VI, 16), которое осуждает всякое поползновение искушать Бога в вышеуказанном нами смысле.
Наконец диавол возводит его на гору, с вершины которой можно было видеть все царства земные и созерцать их величие, их могущество и их богатство. Всё это обещается ему при условии послужить интересам того, кто называет себя их властелином. Иисус отражает его, просто сославшись на основное начало откровенной религии (Втор. VI, 13), которого достаточно ему, чтобы подавить в себе всякое себялюбивое хотение. Можно, пожалуй, сказать по этому поводу, что искушение, наиболее соблазнительное из трех, было побеждено и с наименьшим усилием и с наибольшей решимостью.
Конкретная форма этих трех искушений и особенно второго представляет из себя нечто своеобразное, к чему трудно было бы указать побудительную причину. Но по своей сути они не остаются без аналогии в евангельской истории. Мы напомним происходившее в Гефсиманском саду, когда Иисус сказал: Если бы я захотел, мой отец послал бы мне двенадцать легионов ангелов; или происходившее на Голгофе, когда народ кричал: Если он сын Божий, то пусть он сойдет с креста; затем слова, обращенные к фарисеям: Этот род ищет знамения, но знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, данного ниневитянам; наконец те случаи, когда толпа хотела провозгласить его царем, и его торжественное возвещение: Мое царство не от мира сего.
Читать дальше