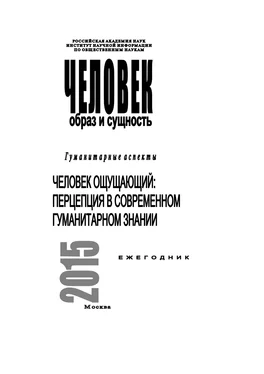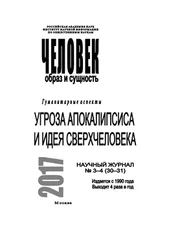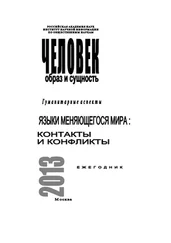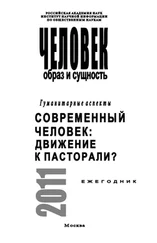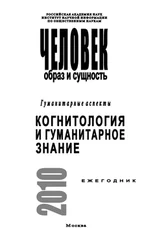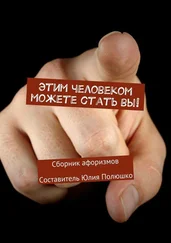Однако это коренным образом видоизменяет всю гносеологическую ситуацию. Возникает вопрос: почему философы, начиная со времен Античности, говорили о сакральности истины? Как оказывается, информационное общество, превращая информацию в универсальную среду жизни, принятия решений и массового поведения, уравнивает натуральную и ненатуральную информацию. Происходит десакрализация истины. Приоритет и сакральность истины естественным образом начинают вытесняться из массового сознания, замещаясь достоверностью отправления и получения данных информации. Приоритет приобретает не истина содержания информации, а эффект ее воздействия независимо от того, как она оценивается с точки зрения истинности содержания. Происходит формирование качественно новой духовной среды, реагирующей на получаемый информационный посыл. Соответственно, происходит формирование специфических качеств массового сознания, однозначно реагирующего на информационные сигналы, их содержание без какой-либо оценки с позиций истины и неистины. Возникает плюральный субъект, обладающий однородными качествами информационных реакций и массового поведения. Поведение субъекта управляется информацией, которая, как правило, не поддается оценке, соответствующим критериям истины и неистины.
Принимая облегченное и не требующее критического самоопределения информационное управление всеми формами личного поведения, индивид утрачивает то, что называлось «духовностью», утрачивает личную идентичность, которая в своей основе видела совокупность универсальных нравственных и правовых принципов, объединенных двумя основными категориями – добра и справедливости. Поведение во всем многообразии жизненных ситуаций, их сложности и противоречивости сталкивалось с внутренними духовными границами, переступить которые означало потерять самого себя как позитивную личность и уважение своего социального окружения. Это то, что подпадает под понятие человечности, а значит, и взаимного отношения независимо от этнических, национальных, социальных и культурных спецификаций.
Теперь ситуация начинает меняться. Поведение обретает ситуационный характер , информационная достоверность которого имеет приоритет по отношению к философским категориям добра и справедливости. Вместе с тем происходит постепенная деструкция оснований духовной коммуникации: если ослабевают универсальные нравственные и правовые ориентиры внутри личного самосознания, то формы коммуникации определяются изменяющимся характером жизненных ситуаций. Стоящие над ними универсальные нравственные и правовые ориентации воспринимаются как маниловщина и лицемерие.
Потенциальная безграничность характера жизненных ситуаций, а значит, и беспредельность их информационной достоверности становятся предпосылками формирования внутреннего мира личности, который не может иметь ни определенного начала, на твердой основе зрелой жизни, ни смыслового ее завершения.
Кардинальные изменения претерпевает и способность мышления. Если традиционно формирующаяся способность мышления позволяла отличать разум как концептуальное познание от рассудка как понимания восприятий, т.е. многообразия эмпирических реалий, то теперь все явления сознания воспринимаются как информация, внутренние различения которой опосредуются характером ее воздействия на принимаемые решения и формы поведения. Если определенность истины является основанием необходимости той или другой формы поведения, то достоверность бесконечного многообразия информации предопределяет случайный характер массового поведения.
В известном смысле можно рассматривать первоначальные стадии формирования и эволюции цивилизаций как стадии решения ключевой программы соединения случайных форм поведения и человеческих отношений с необходимыми формами, соответствующими интересам формирования устойчивых цивилизаций. Исходная истина в решении этой проблемы состоит в свободном подчинении личной воли тому закону, который обусловливает безусловную устойчивость цивилизации как целого.
Для того чтобы это превратилось в реальность массового поведения, должны возникать духовно-социальные образования, обладающие безусловным авторитетом, в котором социальная масса наряду с несомненным убеждением видит не только что-то полезное и необходимое для себя в силу каких-то конкретных причин, но и реальное выражение беспримесной истины и несокрушимой правды.
Читать дальше