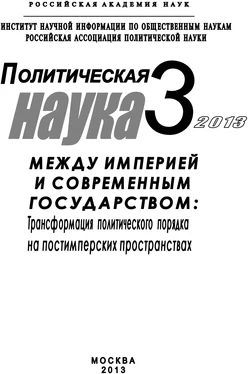Другой важный критерий классификации империй – это их роль в мировой политике. Собственно, претензия на роль великой державы и способность оказывать существенное влияние на мировую политику – ключевая черта империй, выделяющая их среди прочих композитных политий [Lieven, 2001]. Венский конгресс 1814–1815 гг. формально зафиксировал неравенство участников европейского концерта, разделив их на пятерку «великих держав» (Британия, Франция, Россия, Пруссия и Австрия), державы «второго порядка», которые участвовали не во всех комитетах Конгресса, и державы «третьего класса», которых приглашали лишь тогда, когда речь шла о них самих. Стремление защитить свои позиции в этой иерархии, повысить свой статус или вообще войти в «клуб», как в случае с Османской империей, оказывало существенное влияние на все стороны жизни империй. Вообще, то, что мы привычно называем международной системой, для рассматриваемого периода было, прежде всего, межимперской системой. И эта система характеризовалась довольно высокой динамикой. Например, применительно к XVIII и XIX вв. мы можем различать империи слабеющие и усиливающиеся именно в долгосрочном, стратегическом плане. Некоторые империи постоянно «сжимались» (Османская, Испанская, Датская, Шведская), некоторые фактически утеряли способность к экспансии, как Австро-Венгрия. Другие, напротив, демонстрировали способность и стремление к дальнейшему расширению (Британия, Германия, Франция, Россия, США, Япония). Эта динамика, безусловно, оказывала существенное влияние на многие стороны внутриполитического развития империй, в том числе имперских метрополий. Испания, например, столкнулась с серьезными трудностями в процессе строительства нации на Иберийском полуострове и ростом каталонского и баскского движений сразу после потери Кубы и Филиппин в результате поражения от США в 1898 г.
Другая важная характеристика положения империй в мировом соревновательном пространстве – их периферийность или центральность в европейском масштабе. Иначе говоря, расположение имперской метрополии в центре мировой экономической системы, во многом совпадающем с пространством интенсивного урбанистического развития (часть немецких земель, север Франции, Нидерланды, Англия) или на периферии (полупериферии по Валлерстайну [Wallerstein, 2011]) – Испания, Австрия, Россия, Османская империя, – является важным критерием для понимания динамики практически всех имперских процессов и, в особенности, взаимоотношений империй и национализма.
Пожалуй, именно концептуальные подходы к проблематике взаимоотношений империй и национализма претерпевают сейчас самые интересные изменения. Ю. Остерхаммель совершенно справедливо заметил, что довольно широко распространенное убеждение, будто XIX в. был временем утверждения национальных государств, не соответствует действительности [Osterhammel, 2009]. Сходные тезисы высказывались рядом авторов и ранее [Kamen, 2004; Suny, 2001; Berger, Miller, 2008]. Если мы попытаемся вспомнить, какие национальные государства возникли в этот период, то перечень окажется весьма скудным. Остерхаммель указывает на четыре сценария формирования национальных государств в Европе XIX в.: «революционная автономизация» (Греция, Черногория, Болгария, Сербия, Бельгия), «гегемоническая унификация» (Германия и Италия), «эволюционная автономизация» (Норвегия) и «покинутые метрополии» (Португалия и Испания). Но даже этот список вызывает существенные возражения. Во-первых, нетрудно заметить, что успех сценария «революционной автономизации», характерный прежде всего для окраин Османской империи, в большой степени зависел от поддержки великих держав (читай – империй). Подавленное восстание в Болгарии в 1874–1875 гг. и Русско-турецкая война 1877–1878 гг. могут служить прекрасной иллюстрацией. То есть успех или неудача революционных попыток суверенизации обеспечивались не столько силой национального движения, сколько тем, как это движение вписывалось в сценарии межимперского соперничества. Во-вторых, Остерхаммель однобоко интерпретирует примеры «гегемонической унификации», т.е. опыт Германии и Италии, что отчасти можно объяснить почти безраздельным доминированием «национального нарратива» при интерпретации этих процессов. В действительности эти государства не только обращались к прежним имперским традициям для своей легитимации, но практически сразу же после объединения включились в соревнование за колонии, а Германия также предприняла попытку масштабной европейской экспансии. Элиты Германии и Италии делали это, во многом для того, чтобы решить проблемы национального строительства в своих государствах, которые были весьма далеки от состояния консолидированных наций. Наконец, Испания и Португалия, будучи «покинуты» своими колониями в Америке, постарались как можно скорее возместить, хотя бы отчасти, эту потерю новыми колониальными завоеваниями в Африке, т.е. продолжали вести себя как империи.
Читать дальше