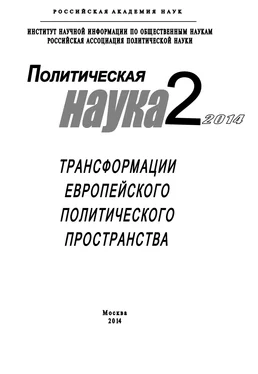Его можно было бы компенсировать инструментами финансово-экономическими, если бы таковые у современного Европейского союза работали эффективно. Но известные нам турбулентные процессы происходят на фоне очевидного финансово-экономического кризиса, который пока еще не до конца разрешен в самой еврозоне, не говоря о возможностях внешней помощи. Более того, все чаще слышны голоса, что расширение Евросоюзу требуется отнюдь не в благотворительных целях, а для решения собственных экономических проблем. Имеет место также финансово-экономическое влияние со стороны других центров – РФ, КНР, богатых нефтедобывающих стран Ближнего Востока, США.
Далее, регионы, находящиеся в фокусе внимания ЕС, подвержены ряду угроз безопасности, главными из которых являются глубокие внутрисоциальные противоречия, неустойчивость государственных институтов, экстремизм и терроризм. Действительно, Евросоюз уже сталкивался с такими проблемами на Балканах, однако в том случае он имел дело с внутриевропейским процессом, на который Россия хотя и пыталась оказывать влияние, но не имела в 1990‐х годах достаточных ресурсов. Сейчас положение обратное – Россия де-факто способна оказывать воздействие на ситуацию, по крайней мере в постсоветских странах. ЕС же ограничен в средствах обеспечения безопасности в североафриканском регионе или, к примеру, в Грузии и на Украине.
Намечаемая таким образом кризисность или, точнее, турбулентность в процессе развития евроинтеграции ставит вопрос о возможностях дальнейшей эволюции европейского интеграционного проекта. Едва ли ЕС пожелает трансформировать свою цивилизационную идентичность или ценностные установки. Скорее, он будет добиваться этого различным средствами от входящих в ассоциацию с ним государств. Одновременно под влиянием внутреннего культурного многообразия в долгосрочной перспективе Евросоюз будет плавно эволюционировать в сторону более синкретической культурно-цивилизационной модели. Сомнительно, что в современных условиях ЕС сможет, а главное – захочет превращаться в финансового донора и даже смелого инвестора. Скорее всего, все возможные ресурсы будут сосредоточены на обеспечении задач внутренней финансовой стабилизации Союза. Наконец, вряд ли Евросоюз, военные расходы членов которого продолжают сокращаться на фоне обратного тренда практически во всех регионах мира, а идея создания общих вооруженных сил не встречает внутренней поддержки, в ближайшее время сможет стать «экспортером безопасности» в традиционном смысле. Вероятнее всего, ЕС будет опираться на притягательность своего образца, публичную дипломатию и политическую риторику.
Исходя из этого, представляет интерес вопрос об иных альтернативных или параллельных способах структурирования политического пространства наряду с европейским. В условиях вхождения ЕС в турбулентные зоны в качестве альтернативы на постсоветском пространстве может рассматриваться евразийский интеграционный проект. Казалось бы, в перспективе он обладает всеми средствами, которых в данном случае недостает проекту евроинтеграционному, – цивилизационной аффилиацией, потенциалом финансового донорства, репутацией «надежного экспортера безопасности». Однако главными и пока что фатальными его недостатками являются слабая имиджевая привлекательность, невозможность генерировать «мечту» об интеграции. В этом смысле можно еще раз вспомнить роль перцептуального пространства в современной мировой и европейской политике.
В свете кризисных тенденций и ощутимых ограничений расширения европейского интеграционного проекта все большее внимание исследователей привлекает вопрос внутренних формы и структуры европейского политического пространства.
Европейское политическое пространство: Форма и структура
Использование категории политического пространства позволило исследователям европейской интеграции выйти из очевидного теоретического затруднения, рассматривая уникальный в своем роде и фактически необъяснимый с точки зрения традиционных представлений политический процесс в Европейском союзе. Возможности именно пространственного анализа при выделении и описании особого политического поля ЕС как среды политических властных отношений, коммуникаций, действий и взаимодействия позволяет изучить пространственно-организационные связи в европейском интеграционном проекте и их конфигурацию, выявить их субъектов, акторов и агентов различной природы, проследить, понять и спрогнозировать политические изменения в развитии Союза.
Читать дальше