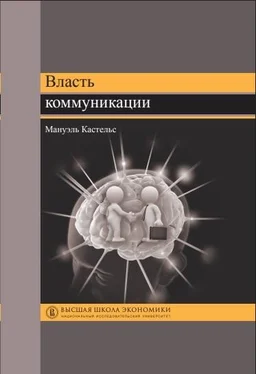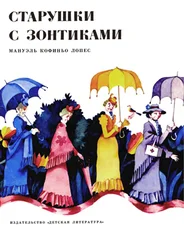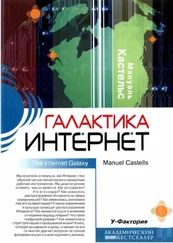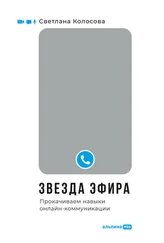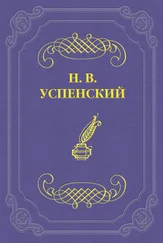Быстрое распространение Интернета начиная с середины 1990-х годов стало результатом сочетания трех факторов:
1. Технологическое открытие Всемирной паутины Тимом Бернерсом-Ли и его готовность улучшать исходный код, сделав его доступным для глобального сообщества пользователей с помощью открытых сетевых протоколов TCP/IP, разработанных в 1973–1975 гг. Винтом Серфом и Робертом Каном. Паутина продолжает функционировать в соответствии с этим принципом открытого кода. Две трети всех сетевых серверов поддерживаются Apache – программой с открытым кодом, разработанной свободным сообществом программистов.
2. Институциональные изменения в управлении Интернетом, находящимся под общим управлением глобального интернет-сообщества, но приватизированным и разрешающим как коммерческое, так и коллективное использование.
3. Глобальные перемены в культуре и социальном поведении: индивидуализация и осетевление.
Позвольте мне подробнее остановиться на этой последней социальной компоненте – основе развития Всемирной паутины и других интернет-сетей.
Наше общество, сетевое общество, сконструировано вокруг персональных и организационных сетей, которые поддерживаются цифровыми сетями и осуществляют коммуникацию посредством Интернета и компьютерных сетей. Такая исторически специфическая социальная структура сложилась в результате взаимодействия новой технологической парадигмы, основанной на информационно-коммуникационных технологиях, и ряда глобальных социокультурных сдвигов. Самый заметный аспект этих изменений можно обозначить как возникновение «я-центрированного» общества, или, если воспользоваться социологическим понятием, позаимствованным у Энтони Гидденса, как процесс индивидуализации, упадок традиционных общественных форм, понимаемых в терминах пространства, работы, семьи и других приписываемых характеристик человека в широком смысле слова. Это не конец сообщества и не конец основанного на пространственных характеристиках взаимодействия, но сдвиг в сторону реструктуризации социальных отношений, в том числе сильных культурных и личных связей на основе индивидуальных интересов, ценностей и устремлений.
Процесс индивидуализации – это вопрос не только культурной эволюции; он материализуется в новых формах организации экономической деятельности, а также социально-политической жизни, о чем речь шла в моей книге «Возникновение сетевого общества» («The Rise of the Network Society» (1996; 2000)). В основе этого процесса лежит трансформация пространства (появление огромных столичных агломераций – мегарегионов), времени (сдвиг от хронологического к сжатию времени), работы (появление сетевых предприятий), культуры (сдвиг от массовой коммуникации, основанной на массмедиа, к массовой самокоммуникации, основанной на Интернете), кризис патриархальной семьи в силу возрастающей автономии ее членов, замена массовой партийной политики медийной политикой и глобализация как селективное осетевление мест и процессов в рамках всей планеты. Однако индивидуализация не означает ни изоляции, ни конца общества. Социабельность (склонность к установлению социальных связей. – А. Ч. ) преобразуется в сетевой индивидуализм и создание сетевых сообществ через поиск индивидов-единомышленников, в этом процессе онлайновое взаимодействие сочетается с офлайновым, а киберпространство – с конкретным физическим местом. Индивидуализм – ключевой процесс в создании субъектов (индивидуальных или коллективных); осетевление – это организационная форма, создаваемая этими субъектами: это сетевое общество, а такую форму социализации Б. Уэллман обозначил как сетевой индивидуализм [Rainie, Wellman, 2012]. Сетевые технологии являются медиумом – посредником между этой новой социальной структурой и новой культурой. И это – глобальное сетевое общество, поскольку глобализация – распространение сети сетей.
Всякая новая форма социальной организации и всякий процесс глобальных технологических перемен порождают собственную мифологию. Отчасти потому, что они становятся практикой прежде, чем ученым удается оценить и просчитать все возникающие при этом эффекты и последствия, поэтому между социальными изменениями и их осмыслением всегда существует зазор. Отчасти из-за того, что люди не знакомы с социальной наукой: они смотрят телевизор, читают прессу, слушают радио, не подозревая, что любое медиа предпочитает сообщать плохие, а по возможности очень страшные новости. Например, их сообщения разоблачают увлечение Интернетом, как приводящее к отчуждению, изоляции, депрессии и оторванности от социума. На деле факты говорят об обратном [Rainie, Wellman, 2012; Cardoso et al. (eds), 2009]: такой взаимосвязи вообще не существует; напротив, существует в высшей степени позитивная взаимосвязь между Интернетом и паттернами социализации: чем общительнее люди, тем больше они пользуются Интернетом, а чем больше они пользуются Интернетом, тем общительнее они как в сети, так и вне ее, тем выше их уровень гражданского участия, тем интенсивнее их семейные и дружеские связи во всех культурах, как показывают исследования (я опираюсь на данные World Internet Survey, USC; Oxford Internet Survey for Britain; Virtual Society Project in Britain; Pew American Life and Internet Project; Project Internet Catalonia; Nielsen Reports Worldwide; World Values Survey; University of Michigan; Berkmann Center, Harvard University; Observatorio de Sociedade da Informaçao в Португалии и т. д.).
Читать дальше