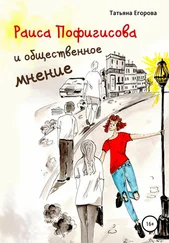Но и тогда, в период короткого андроповского правления (1982–1984), дело ограничилось лишь словесными заявлениями нового лидера о необходимости видеть общество в реальной динамике, со всеми его возможностями и нуждами. В этот период даже решения партийных форумов принародно утрачивали свою силу. Доклад К. Черненко на июньском пленуме ЦК КПСС (1983), посвященный вопросам идеологической работы партии, включил в себя долгожданное признание в том, что «в современных условиях назрела необходимость создания специализированной системы изучения потребностей, мнений и настроений трудящихся масс, опирающейся на специфические методы выявления и анализа общественного мнения и позволяющей получать по любому вопросу, в любой момент представительную и в масштабах всей страны информацию» [24] Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14 июня 1983 г. М., 1983.
.
Более того, Пленум признал необходимым создать Всесоюзный центр изучения общественного мнения и поручил Академии наук СССР и Академии общественных наук при ЦК КПСС внести предложения по организации этого центра [25] Там же. С. 79.
. В реальности политической воли и желания создавать новую демократическую институцию у лидеров партии не было. 8 сентября 1983 г. в ЦК КПСС были приглашены шесть ведущих социологов страны: Б. Грушин, Ю. Замошкин, Э. Клопов, Н. Лапин, В. Шубкин, В. Ядов. Перед ними была поставлена задача: подготовить до конца месяца проект постановления Секретариата ЦК КПСС о создании ВЦИОМа. Работали как каторжные в стенах Отдела науки ЦК и под «присмотром» работников Отдела. 27 сентября группа завершила свой труд. Авторов вежливо поблагодарили за работу, отметили ее высокое качество и выразили ритуальное пожелание, чтобы социологи завершили свой труд на заключительном этапе подготовки партийного документа [26] Открывая Грушина / Ред. – сост. М. Е. Аникина, В. М. Хруль. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. С. 477–479, 482.
.
Открытие ВЦИОМа от «холостого выстрела» 1983 г. отделяли целых четыре года. В действительности же даже сложившийся к тому времени законопослушный социологический истеблишмент не получил никаких намеков о начале действий в направлении демифологизации, не говоря уже о прямых указаниях. По этой причине многие публикации продолжали «обслуживать» миф, сохраняя апологетический стиль брежневской эпохи. Что касается самих исследователей, то они в своей массе оставались поделенными на тех, кто был готов взять на себя риск и сделать шаг в сторону более честного, непредвзятого анализа жизни страны, и тех, кого брежневские порядки устраивали.
Постепенно слова лидера партии стали утрачивать былую власть над людьми. Но воспользоваться безволием и бездействием власти социология тогда не смогла, будучи прочно удерживаемой от своевольных поступков тремя «якорями» – верой в «социализм с человеческим лицом», отсутствием свободы научного творчества и поиска, контролем со стороны партии и государства. «Выбирать» эти «якоря» оказалось делом непростым, требующим времени, особых усилий и, конечно же, благоприятных социальных условий. Однако их наступление откладывалось, ибо сущность власти оставалась неизменной [27] Фирсов Б. М. История советской социологии: 1950–1980-е годы. Очерки. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. С. 301.
. «Относительно спокойный период застойного времени в 70-е годы сменился фазой явного кризиса после начала афганской войны. На данной стадии выявилась едва ли не самая главная слабость социально-политической системы, достигшей апогея своего развития, – ее невоспроизводимость. Неспособный к обновлению режим дряхлел вместе со своими лидерами» [28] Левада Ю., Ноткина Т., Шейнис В. Секрет нестабильности самой стабильной системы // Погружение в трясину (Анатомия застоя). М.: Прогресс, 1991. С. 15–30.
.
За многие годы советской власти все было сделано для того, чтобы лишить общественное мнение главной социальной роли – быть одной из ветвей, институтом народовластия в обществе. Политическую культуру населения осознанно держали на очень низком уровне. Напомню, многие рабочие и служащие Ленинграда, с 1970-х годов числившегося по историческому реестру «колыбелью революции», не понимали важности и не принимали ряда политических прав и свобод, декоративно вписанных в «брежневскую» Конституцию. Вот где беда! Им представлялись достаточными привычные права на труд, отдых, образование, медицинское обслуживание и пенсионное обеспечение в старости.
Читать дальше
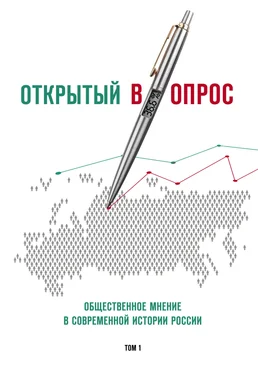


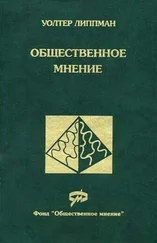



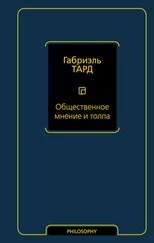
![Элизабет Ноэль-Нойман - Общественное мнение [Открытие спирали молчания]](/books/425626/elizabet-noel-thumb.webp)