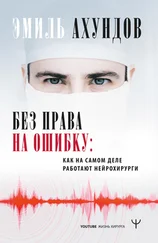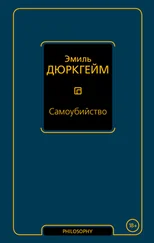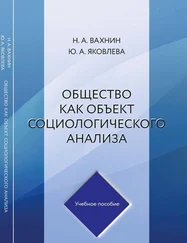Итак, наше определение сочли слишком узким, но в то же время нас обвинили в том, что оно слишком широкое и охватывает почти всю реальность. Вообще-то утверждалось, что всякая физическая среда подвергает принуждению всех, кто испытывает ее воздействие, ведь эти существа вынуждены в определенной мере к ней адаптироваться. Но указанные два вида принуждения различаются столь же радикально, как среда физическая и среда нравственная. Давление, оказываемое одним или несколькими телами на другие тела или даже на чужую волю, нельзя смешивать с давлением, которое сознание группы оказывает на сознания ее членов. Особенность социального принуждения состоит в том, что оно проистекает вовсе не из неподатливости каких-то сочетаний молекул, а из престижа, которым наделяются те или иные представления. Правда, приобретенные или унаследованные привычки в некоторых отношениях обладают теми же свойствами. Они господствуют над нами, навязывают нам убеждения и практики. Но они господствуют над нами изнутри, так как целиком заключены в каждом из нас. Напротив, социальные убеждения и практики воздействуют на нас извне; поэтому влияние, оказываемое теми и другими, является принципиально различным.
При этом не нужно удивляться тому, что прочие явления природы в других формах содержат тот же признак, которым мы определяем явления социальные. Это сходство возникает попросту вследствие того, что и те и другие суть реальные явления. А все, что реально, обладает конкретной природой, которая навязывается, с которой надо считаться и которая, даже если удается ее нейтрализовать, никогда не подчиняется полностью. Можно сказать, что это самое существенное в понятии социального принуждения. Оно подразумевает, что коллективные способы действия и мышления существуют реально вне индивидуумов, которые постоянно к ним приспосабливаются. Это объекты, обладающие собственным существованием. Индивидуум находит их совершенно готовыми и не может сделать так, чтобы их не было или чтобы они отличались от себя исходных. Он вынужден поэтому принимать их в расчет, и ему тем труднее (мы не говорим: невозможно) их изменить, что они в различной степени связаны с материальным и моральным превосходством общества над членами этого общества. Вне сомнений, индивидуум играет определенную роль в их возникновении. Но, чтобы социальный факт существовал, требуется взаимодействие хотя бы нескольких индивидуумов – при условии, что это взаимодействие породит какой-то общий результат. Поскольку этот синтез происходит вне каждого из нас (в него вовлечено множество сознаний), он непременно ведет к закреплению, установлению вовне определенных способов действия и суждения, каковые не зависят от каждой отдельно взятой воли. Как было отмечено ранее [13] См. статью «Социология» Фоконне и Мосса в «Большой энциклопедии». (Имеется в виду французская 31-томная универсальная энциклопедия, издававшаяся с 1886 по 1902 год. П. Фоконне – французский социолог. М. Мосс – французский социолог и этнограф. – Примеч. перев .)
, есть слово, которое, если немного расширить его обычное значение, довольно хорошо передает этот специфический способ бытия, – это слово «институт». Фактически, ничуть не искажая смысла слова, можно назвать институтом все верования и все разновидности поведения, одобряемые группой; тогда социологию можно определить как науку об институтах, их происхождении и функционировании [14] Несмотря на то обстоятельство, что верования и социальные практики проникают в нас извне, отсюда не следует, что мы пассивно их воспринимаем и нисколько не видоизменяем. Осмысливая коллективные институты, приспосабливая себя к ним, мы их индивидуализируем, мы так или иначе помечаем каждый из них своей личной меткой. Так, осмысляя чувственно данный мир, каждый из нас окрашивает его по своему усмотрению, и разные люди по-разному приспосабливаются к одной и той же физической среде. Вот почему каждый из нас в какой-то мере создает собственную мораль, собственные религию и технику. Все типы социального сходства содержат в себе целую гамму индивидуальных оттенков. Тем не менее верно, что область допустимых вариаций ограничена. Она ничтожна или очень мала в религиозных и нравственных явлениях, где отклонение легко становится преступлением. Она более обширна во всем, что относится к экономической жизни. Но раньше или позже, даже в последнем случае, мы сталкиваемся с границей, которую нельзя переступать.
.
Читать дальше
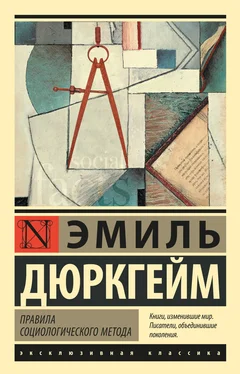

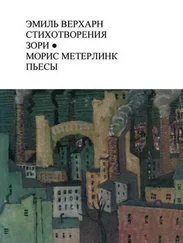



![Эмиль Дюркгейм - Самоубийство [litres]](/books/386854/emil-dyurkgejm-samoubijstvo-litres-thumb.webp)