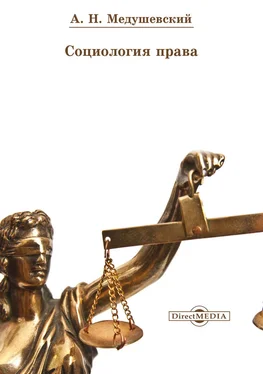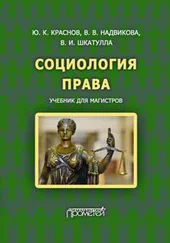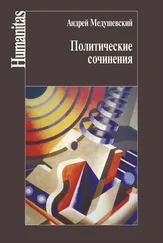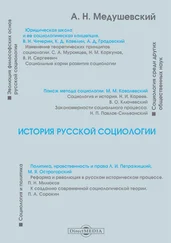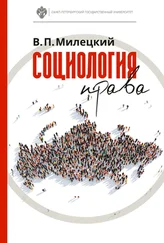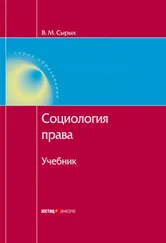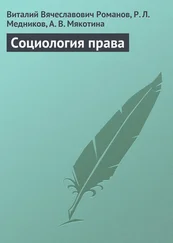Особенно четко данный конфликт идеологий проявился в ходе радикальных социальных движений в отсталых аграрных и колониальных странах. Влияние Запада привело к фундаментальным изменениям в странах Азии, на Среднем Востоке, Африке и Латинской Америке по следующим направлениям: индустриализация; демократизация; колонизация и христианизация. Особенно деструктивным это влияние было для древних неподвижных культур, как Китайская империя. Разрыв между запросами общества и возможностями правительства вызвал кризис легитимности власти, достигший апогея в 1911–1912 гг. Под вопрос были поставлены стабильность, централизация и унификация системы, скреплявшиеся традиционными конфуцианскими религиозными и этическими принципами, культурным единством правящего класса и преданностью династии (173). Особенности идеологии китайской революции выявляются из сравнения с российской: быстрый переворот в России и «долгий путь» в Китае; пацифизм в одном случае и национализм в другом; движение революции из столиц (из Петербурга и Москвы) в провинцию и, наоборот, из отсталых зон (Шанхай) – в столичные города; преобладание рабочих в России и крестьян – в Китае (174). Главные составляющие китайской формулы – национализм, крестьянство, армия. Они присутствовали и в русской революции, но их соотношение было иным. В обоих случаях важную роль играл аграрный вопрос, ставший центральным. Существовало сходство революционных партий, имевших аналогичную структуру. И в том, и в другом случае импульсом революционного движения стала империалистическая война (вторжение Германии в Россию и Японии в Китай), существовал национальный кризис и, как следствие, слабость противника революции – правящего класса и государства в целом. Однако выражение этого кризиса было разным: революция во имя интернационализма в России и революция во имя национального освобождения – в Китае. Роль лидеров была не однозначна: Мао в Китае был единственным национальным лидером, воплощавшим в одном лице Ленина-Троцкого-Сталина. Китайская революция в связи с этим сформировала модель для революций в странах Третьего мира именно в силу своего национального, антиколониального и крестьянского характера.
Своеобразное соотношение национализма и модернизации представлено моделью социальных преобразований в Японии нового и новейшего времени. Дело в том, что этой стране в сравнительно короткий исторический промежуток времени удалось перейти от традиционного общества к индустриальному, причем осуществить этот переход без социальных потрясений. Фактически эта модель иллюстрирует возможность избежания революции путем радикальной реформы. Не случайно японская историография колеблется в определении такого принципиального исторического периода, как «эра Мейдзи», определяя его и как «революцию», и как «реставрацию». Нарастающая быстрота изменений была причиной смены фаз революции фазами реакции (175). В отличие от опыта европейских революций и их азиатских аналогов (как Китайская или Иранская революции) японская модель показывает, каким образом радикальные социальные изменения (новая система ценностей, социальная структура, политические и правовые институты) могут быть введены без революционного взрыва на верху, без массивных изменений обстоятельств жизни внизу. Прошлое (национальная традиция) продолжает влиять на новый порядок, но это не предотвращает демонтаж этого порядка, экспроприацию привилегий и доходов старой элиты, организационную революцию и глубокую реформу институтов и правил, которые ограничивали возможности обычных людей (176). Контакты с Западом, неравноправный договор 1858 г., дали импульс процессу модернизации, борьбе за власть внутри правящих групп, выявили различные позиции в отношении национального единства и укрепления государства, стимулировали институциональные реформы. Результатом стала смена режима Токугава в ходе серии кризисов 1867–1868 гг. абсолютизмом. Гражданская война 1867–1869 гг. укрепила позиции радикалов. Был осуществлен ряд социальных реформ – реформа земельного налогообложения 1871 г., введение новой образовательной системы и реформа армии. Завершением этого процесса модернизации и европеизации стало принятие конституции Мейдзи. Был произведен синтез модернизации и национальной традиции, позволивший избежать социальной революции в западном смысле. Этому способствовали, как показали исследования, особые культурные и социальные факторы – конфуцианская этика, патриархальные семейные связи в обществе, особенности культуры правящего класса. Таким образом, это была не революция, а реформа (или реставрация): власть не перешла к новому классу буржуазии, элита, определявшая политические решения, по-прежнему формировалась из бывших самураев. Изменения социальной природы власти носили не революционный, а эволюционный характер. Результатом был не феодальный и не буржуазный строй, но гибрид между ними, который японские марксисты называли бюрократическим абсолютизмом в духе Восемнадцатого брюмера. Это была промежуточная стадия модернизации, которая завершилась лишь в XX в. (177).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу