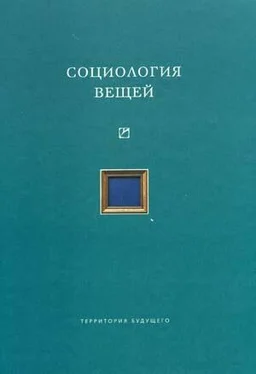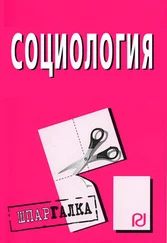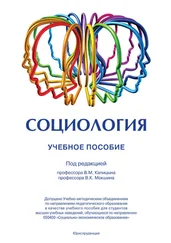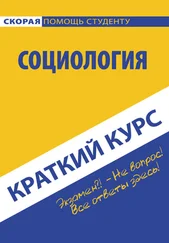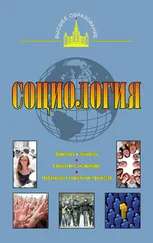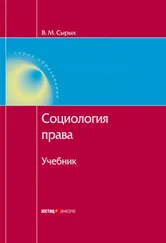Определение «оснащения» („equipment“) у Гофмана противоположно определению «оснастки» („Zeug“). В теории фреймов вещь – это, скорее, реквизит, чем инструмент. То движение, которое совершает Гофман в направлении концептуализации материального объекта как оснащения-реквизита, возвращает вещам их объектность. Вещи более не «поглощаются» действиями людей, но скрепляют и направляют их: деловой костюм придает внятность взаимодействиям в «деловых» фреймах (отделяя деловые встречи от встреч «без галстуков»), спортивное снаряжение связывает взаимодействия в фреймах «активного отдыха» (см. в тексте Гофмана тезис о преемственности ресурсов взаимодействия). Таким образом, материальная атрибутика повседневной жизни придает социальным ситуациям связность и целостность.
Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что подобная концептуализация оставляет вещам ничуть не больше самостоятельности в качестве предметов исследования, чем их определение в категориях послушных и подручных объектов. Дело в том, что реквизит – это всегда знак, сообщение. А потому хоть флаг и не «поглощается» ритуалом парада так, как шариковая ручка «поглощается» практикой письма, но флагом его делает не материальность полотна и вещность древка, а все те же скрывающиеся за ним «символические отношения». Мы вновь вернулись к зиммелевской постановке вопроса о социальной логике вещей и предложенному им решению: социальное содержание самозаконно, материальная форма – нет. В терминах Гофмана: «… непрерывность характера обращения [с предметами] навязана нам не объективной непрерывностью существования материальных вещей, но нашими представлениями о непрерывности духовно-значимых предметов. Священные реликвии, сувениры, подарки и локоны волос на память поддерживают некую физическую непрерывность связи с тем, о чем напоминают. Но именно наши культурные верования и представления о преемственности ресурсов деятельности придают таким реликвиям известное эмоциональное значение, личностное звучание – так же, как эти верования „придают“ нам нашу личность» [16]. Социологизированная подобным образом вещь предстает в образе физического объекта, опутанного паутиной смыслов. В этом отношении к материальности социального мира еще раз проявляется сходство позиций И. Гофмана и Г. Зиммеля.
Импликация такого решения – требование охранять демаркационную линию между социальным и материальным. Фреймы, хотя и имеют материальные корреляты, нематериальны. Например, «игра в шахматы, – отмечает Гофман, – содержит два принципиально различающихся основания: одно полностью принадлежит физическому миру, где происходит пространственное перемещение материальных фигурок, другое относится непосредственно к социальному миру противоборствующих в игре сторон» [17]. Из чего следует, что противоборство сторон – социально, тогда как «простые» материальные фигурки требуют оживления, анимации, включения в игру, без которой они обречены оставаться «просто» кусочками материала разной формы. За этой демаркацией материального и социального угадывается неэксплицируемая исследовательская установка: материальное – «просто», социальное – «сложно» . Материальные вещи суть «просто вещи» (mere things), они непроблематичны и требуют внимания лишь настолько, насколько являются ингредиентами сложной субстанции социального. Социальное самодостаточно (шахматный поединок может вестись вслепую, без досок и фигурок), материальному же требуется опора в мире социальных значений.
Этот заход на определенном этапе развития социальной мысли становится исключительно эффективным средством социологической экспансии. Достаточно указать на нити паутины смыслов, тянущиеся за «простым» материальным объектом, и социология получает право неограниченного доступа к самым разнообразным предметам (поскольку исследует не то, что они «есть», а то, что они «значат» для представителей конкретного сообщества). Следы данной перспективы анализа можно обнаружить и в социальной (культурной) антропологии.
Так, в статье «Культурная биография вещей: товаризация как процесс», вошедшей в первую часть настоящего сборника, антрополог Игорь Копытофф использует сходную логику при атаке на аксиомы экономического мышления: «Для экономиста товары просто „есть“… С точки зрения культуры, производство товаров является культурным и когнитивным процессом: товары следует не только произвести физически как вещи, но и маркировать в координатах культуры как вещи определенного рода. Из всего диапазона предметов, наличествующих в обществе, лишь некоторые получают право называться товарами. Более того, один и тот же предмет может считаться товаром в один период времени и не считаться им в другой. И, наконец, один и тот же предмет может одновременно являться в глазах одного человека товаром, а в глазах другого – нет. Подобные изменения и разногласия при оценке того, является ли вещь товаром, свидетельствуют о существовании моральной экономики, которая скрывается за объективной экономикой, выражающейся в зримых сделках купли-продажи» [18]. Товар здесь понимается как своего рода «маркер», которым помечается материальный предмет сообразно закрепленным в культуре системам различений. Копытофф проблематизирует фундаментальное различение западной культуры – различение «мира людей» и «вселенной объектов». Его анализ охватывает феномены рабства, коллекционирования, суррогатного материнства, моды на антиквариат, абортов – при этом, чего бы ни касалось его исследование, Копытофф последователен в своем стремлении раскрыть стоящую за «объективной» экономикой «моральную» экономику культурных значений. Собственно, культурные значения, по Копытоффу, и определяют модус бытования вещи в том или ином сообществе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу