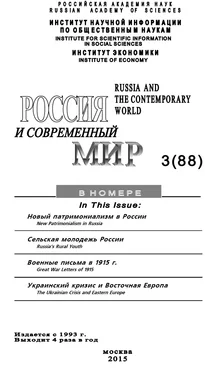По сути, речь идет об одновременности решения как этих двух задач, так и трансформации имперской модели государственного устройства в современную нацию-государство [Offe 1991]. Спустя четверть века возникают серьезные сомнения относительно убедительности оценки исторического опыта новой России именно по этому тройственному лекалу, но все же нельзя отрицать, что в начале 1990-х годов создание демократической системы правления, рыночной экономики и федерализма рассматривались в качестве важнейших вызовов, с которыми имеет дело российское общество. Тем не менее фактический ход исторических событий убедительно показал, что центральным был вопрос о власти как таковой, тогда как дизайн политической системы, дерегуляция экономики и изменение структуры собственности, отношения «Центр – регионы» и «Россия – государства постсоветского пространства» оказывались производными от того или иного исхода борьбы за власть.
Два с небольшим года, разделяющие «Преображенскую революцию» 19–21 августа 1991 г. и принятие Конституции новой России 12 декабря 1993 г., вне всякого сомнения, стали временем решающей трансформации государственных институтов и определения вектора их последующего развития. В этот же период российское общество испытало самый сильный травматический шок, сопровождавшийся утратой жизненных ориентиров и идеалов для десятков миллионов людей. Причем борьба за власть – между Борисом Ельциным и Михаилом Горбачёвым в последние месяцы номинального существования Советского Союза, затем – между Ельциным и Верховным Советом России способствовала тому, что социальная травма оказалась еще более болезненной.
В период между поражением ГКЧП и ратификацией Беловежского соглашения, когда на глазах у изумленного человечества происходило обрушение советского колосса, важнейшей ставкой для основных акторов московской политической сцены было преодоление двоевластия. Именно этот мотив заставил Бориса Ельцина приехать в Беловежскую пущу и поставить свою подпись под приговором СССР. В свою очередь, Михаил Горбачёв, преданный ближайшим окружением и временно возвращенный в Кремль своим главным политическим противником, был не в состоянии осознать, что все его попытки сохраниться в качестве номинального лидера Союза суверенных государств, конфедерации или какого-либо иного объединения части советских республик обречены на провал. Если бы самоликвидация таких институтов власти СССР как Съезд народных депутатов (5 сентября 1991 г.) была логически завершена отставкой Горбачёва с поста президента СССР и временным делегированием соответствующих полномочий президенту России, последний был бы вынужден выступить в новой для себя роли интегратора пространства, которое еще только становилось постсоветским. Скорее всего, он уже не смог бы удержать все 12 республик (независимость стран Балтии была признана Госсоветом СССР 6 сентября 1991 г.). Однако шансы создать менее широкое объединение, по составу близкое к современному Евразийскому экономическому союзу, в начале осени 1991 г. не были нулевыми. Во всяком случае, беловежский сценарий в этом случае был бы исключен. Продление двоевластия еще на три месяца обернулось не только полной утратой контроля Москвы над ситуацией в других республиках, но и началом дестабилизации в российских регионах. В частности, исполнение подписанного Борисом Ельциным 7 ноября 1991 г. Указа «О введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской Республике» было торпедировано силовыми структурами, формально находившимися в подчинении Михаила Горбачёва.
Видя свою основную задачу в избавлении от Горбачёва, Ельцин подбирал исполнителей, готовых проводить экономические реформы в условиях окончательного разрушения государственного единства Советского Союза. Наиболее очевидный претендент на роль лидера экономических преобразований – Григорий Явлинский – был отвергнут, во-первых, из-за его неготовности идти на радикальный разрыв хозяйственных связей России с другими советскими республиками (а уже в этом Ельцин и его ближайшее окружение могли видеть проявление лояльности по отношению к Горбачёву), и, во-вторых, из-за опасений его будущих претензий на самостоятельную политическую роль. Члены команды Гайдара, напротив, столь усердно пестовали свой имидж лишенных политических амбиций технократов, что казались вполне удобными не только российскому президенту, но и первому вице-премьеру Геннадию Бурбулису, с чьей подачи молодые реформаторы оказались в Белом доме [см.: Полторанин 2011, c. 243]. Именно Бурбулис в так называемом меморандуме от 3 октября 1991 г. предложил обоснование сепаратного от других республик экономического рывка, предпосылкой которого станет избавление от союзного Центра: «Объективно России не нужен стоящий над ней экономический Центр, занятый перераспределением ее ресурсов… Однако в таком Центре заинтересованы многие другие республики. Установив контроль над собственностью на своей территории, они стремятся через союзные органы перераспределять в свою пользу собственность и ресурсы России. Так как такой Центр может существовать лишь при поддержке республик, он объективно, вне зависимости от своего кадрового состава, будет проводить политику, противоречащую интересам России» [цит. по: Мороз 2011, с. 507].
Читать дальше