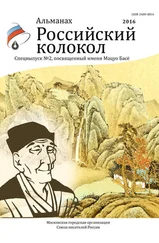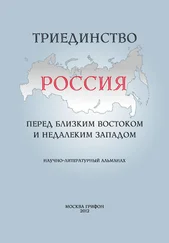* * *
Л. С.
Сумочка в частую крапину.
Беличьей шубки разлёт.
Слушала, помнится, Апину.
Знала всё-всё наперёд.
Честные-честные с искрами
до помрачения жгли…
Как обожается исстари,
что растворилось вдали!
Фортели заполночь, в чёрную
кровь загонявшие муть.
Дёрганья крашеной чёлкою, —
«Перечеркни и забудь».
Давешней песенки каверза,
полузабвения мга.
Нерастворимого абриса
выкройка вся недолга —
росчерки смеха и вызова
в крапчатом брезжат снегу,
дамского шлягера сызнова
опровергая пургу.
* * *
Тётки рухнут в снег и свалят за океан.
Позабудут, как по морозцу жгли.
Но и там отыщется ресторан
где-нибудь на самом краю земли.
Чтобы Тихий пенился в двух шагах,
нависали виллы киношных звёзд…
Ну а что в пролёте – увы и ах.
В свой черёд ухватят судьбу за хвост.
Нужно плотно знать – та ещё блатва —
новосветских дам – оторви да брось:
без проблем докажут, что дважды два
будет ноль, коль счастье не задалось.
И они протопают по Вайн-стрит,
гордо глядя зáлитыми окрест —
хоть мотор сбивается и горит,
хоть и нет для них на премьерах мест.
Тётки курят и говорят: «Фигня!
Всё по делу – верным идём путём.
И победа ближе день ото дня.
И прикольно, что до конца идём».
Там в три смены фабрика пашет грёз —
врёт красотка, мочит врагов герой.
И западают не по-людски всерьёз
на happy end отравленные игрой.
Бродят ночью взбалмошные огни,
и Лос-Анжелес ухает в никуда,
затопляя разом труды и дни
в допотопном виски с осколком льда.
Тётки мнут окурки – и по домам.
В хостел, в пригород, в жуткие тигули,
где рассветных снов злополучный спам
крутит плёнку, как беспробудно жгли.
Чтоб улыбка вспыхивала во сне,
новый день высвечивался, свинцов —
точно хлынет весь позабытый снег,
и они проснутся в конце концов.
* * *
Поступь дворника дюжего
тяжела по ледку.
Снега вольное кружево
оттеняет строку.
Оттеснённые в крошево
отвердевшей воды,
жухнут дня непогожего
штормовые следы.
Изоконный, обыденный,
до последнего наш,
краем глаза увиденный
присмиревший пейзаж.
Где разряды истрачены
средь эпических туч
и от нищенской всячины
сумрак светел и жгуч.
И в распаде на частности
жизнь мгновеньем красна —
даром в присной неясности
подступает весна.
Всё по новой закрутится,
развернётся сполна —
ожиданье, распутица,
грязь на все времена.
Бесконечное марево
вольнодумцу родней,
чем слеза государева
при скончании дней.
И решётка увечная
на воротцах двора —
точно доблесть заплечная
из дурного вчера.
* * *
По этой жизни вовсе не сова,
мешаешь явь и сон осоловело,
игрою в бесполезные слова
грудную клеть пронизывая слева.
Жить жаворонком легче и светлей —
не тормозить и сроду не чиниться,
дневной душеспасительный елей
плеская по глазницам очевидца.
Но игроку не видеть, а назвать
сполна даны ночные карты в руки.
И что ему и рюмка, и кровать,
и прочие нехитрые науки?
Кто сочинён кормиться темнотой,
тому смешны обманки световые —
ходил не к этой, нравился не той —
видать, со смертью сладится впервые.
Зияют интервалы между строк,
где выигрыш глядит из ниоткуда —
всё впереди, всему свой смертный срок,
бессрочное несбыточное чудо.
/ Кишинёв /

ДОЛГОЕ, СТРАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
31 декабря 1978. Бальный зал Winterland, Сан Франциско, Калифорния.
Пролог: тёмная звезда
Он был здоровым. Он был чёрным. Но самое главное: он был известным, и он был в хламину. Идеальная жертва стервятников-интервьюеров с канала KQED и радиостанции KSAN.
– Что ж, с нами актёр и ведущий «Утреннего шоу с Джеем Перри» – сам Джей Перри, – сказало оранжевое пятно. Перри повернул голову. «Мужик, – распознал он. – Толстый. Как я. Только ниже ростом. Как колобок». И тут же появился колобок, много разных колобков, танцующих и метаморфизирующих в Шиву.
Слева доносились какие-то высокие звуки, но Джей не мог их разобрать и поэтому не поворачивался. Он был на 70 % уверен, кто он (Джей Перри, актёр, муж, отец двух дочерей), на 40 %, где он, и на 30 % он был уверен в том, что расплывчатое нагромождение атомов справа – настоящий, существующий, реальный человек, на вопросы которого надо почему-то отвечать… почему-то… почему…?
Читать дальше