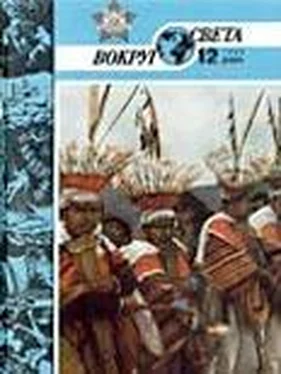Условия изменяют облик северных растений до неузнаваемости — изменяется фенотип. Но генотип (набор генов) остается. Генотип меняется реже и обязательно в сторону большей приспособляемости. Местные изменения генотипа в конце концов приводят к появлению новых видов растений. Заповедники как раз и представляют собой естественные лаборатории, где жизнь развивается при минимальном воздействии человека и где ученому открывается необозримое поле для исследований.
Помню, в одном из наших маршрутов мне удалось найти калипсо луковичную — редкую орхидею северных лесов. В мире более 15 тысяч видов орхидей, но все они обитатели тропических лесов. А вот калипсо луковичная прижилась на далеком севере. Она занесена в книгу о редких и исчезающих видах растений Сибири. Лесные пожары, рубки, выпас скота в лесу губительно сказываются на ее численности. Вблизи населенных пунктов это растение не встретишь. Только лесная глухомань спасает ее. Калипсо луковичная поражает своим ярким розовым цветком и тонким ароматом. И то и другое непривычно для тайги, которая не блещет яркими красками.
Находка калипсо — еще одно подтверждение правильности выбора территории будущего заповедника. Гори, калипсо, в заповедной тайге! Может быть, ты когда-нибудь откроешь человеку секрет — как тебе, неженке, удается победить зимние морозы и вечную мерзлоту...
Есть на территории Центрально-сибирского заповедника еще один цветок — марьин корень, или пион. Он издалека бросается в глаза: высокий цветоносный стебель с большими, глубоко рассеченными листьями, а на вершине — большой, больше ладони, ярко-красный цветок.
Стебель пиона начинается из корявого крупного корневища, которое глубоко уходит в землю. Существует промышленный сбор этих корневищ: они обладают ценными лечебными свойствами. Но, к сожалению, сбор плохо контролируется и есть опасность, что марьин корень может исчезнуть до того, как его изучат по-настоящему. Теперь Центральносибирский заповедник будет служить надежным убежищем для этого ценного лекарственного растения.
Как много еще в растительном царстве средств, полезных для нас, о которых мы еще ничего не знаем или знаем очень мало! Вот совсем недавний случай. Грушевые сады Италии издавна страдали от болезни, называемой «бактериальный ожог груши». Были испробованы самые различные средства борьбы с ней, но ничего не помогало. Кто-то догадался привить итальянским грушам ген устойчивости против этой болезни, найденный советскими учеными в дикой уссурийской груше. Проблема бактериального ожога была решена. Множество ценных качеств таят и другие дикие растения... И наша задача — сохранить все их виды для ученых будущих поколений.
То, что не успеем или не сумеем сделать мы, сделают они.
...Мы уже перевалили вершину горы Каменной. Еще на вершине слышали далекие раскаты грома, доносившиеся с юга, и там, где-то далеко-далеко, разрасталась, вспухала в полнеба черная туча с ослепительно белой вершиной. Но так ласково пригревало солнце, так легко веял ветерок, отгонявший пока еще редких, но надоедливых комаров, что мы не торопились покинуть вершину. Однако сейчас невольно ускорили шаги. Гроза надвигалась. А мы, как назло, попали в такую плотную пихтовую тайгу, что каждый шаг давался с трудом. Ветер крепчал, в тайге как-то сразу потемнело. Вершины пихт глухо ухнули и дугой склонились в одну сторону. Сверху посыпались старая кора, хвоя, обломки сухих веточек. Нужно немедленно становиться на ночлег, но кругом — сырая тайга. Толстый слой мха пропитан водой. Тут и там бежали ручейки талого снега, петлявшие меж упавших деревьев. И здесь воде не давала просачиваться в глубь почвы вечная мерзлота.
Наконец обнаружили гряду камней. Здесь тоже бежали ручьи, но журчали они под камнями, а камни обросли подушками мха. Устройство ночлега было делом десяти минут. Полиэтиленовая пленка, привязанная к стволам пихт, образовала крышу, а в двух шагах от «дома» заплясали язычки костерка.
Мы успели сварить нехитрый ужин и забраться под крышу, когда началась гроза. Молнии полосовали небо от горизонта до горизонта, гром грохотал словно канонада. Такую грозовую ночь в народе называют «воробьиной». Однако нашу ночь я бы назвал «ночью бледного дрозда». И вот почему.
Сквозь грохот грозы я вдруг услышал, как кто-то тронул гитарную струну. Потом еще и еще. Струну натягивали и отпускали. Получался удивительно чистый звук, что-то похожее на «тюли-тюви», «тюви-тюли-и-и-и». Только во время особенно сильных раскатов струна на мгновенье замолкала.
Читать дальше