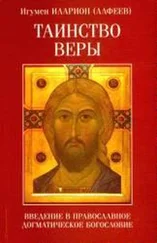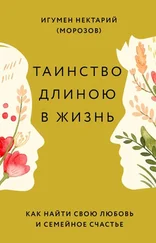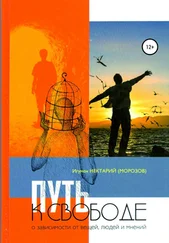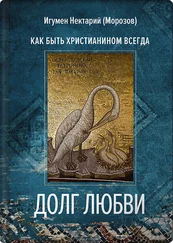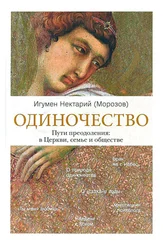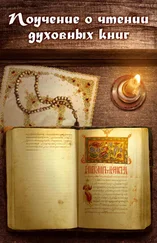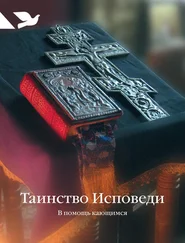Нельзя грешить в надежде на исповедь. Как говорит великий христианский учитель преподобный Исаак Сирин [23], тот, кто грешит, надеясь покаяться, лукаво ходит перед Богом и может быть в любой момент восхищен из этой жизни. Поэтому не стоит обещать самому себе: «Согрешу, а потом покаюсь». Люди нецерковные и неверующие так и говорят: «Хорошо у вас в Церкви все устроено: сначала согрешишь, потом покаешься!»
Хорошо еще, если человек, приняв такой искусительный помысл, тут же спохватывается и начинает себя винить: «Какую же я глупость совершил! Господи, прости меня!» Здесь есть искренность. Другое дело, когда раскаяния нет, и человек готов и дальше следовать этой лукавой логике. Это уже настоящее коварство перед Богом, и оно может плохо закончиться.
Встречаются и такие люди – их очень жалко, – которые приходят и говорят, к примеру: «Я изменяю жене… Но сейчас пост, и я бы хотел причаститься, поэтому постом я буду сохранять ей верность». – «А когда пост закончится?» – «Наверное, буду изменять…» Здесь мало оснований для того, чтобы допустить до Причастия принесшего такую исповедь… Впрочем, та же ситуация может иметь иную подоплеку. Бывает, что человек признается: «Не могу остановиться», и священник может пойти на некоторую хитрость и сказать: «Сейчас пост, воздержись хотя бы постом». Если человек проявляет какое-то усердие и действительно удерживается, я могу допустить его до Причастия, но не с тем, чтобы, когда пост закончится, он вернулся к своим прежним грехам, а с тем, чтобы он удержался от них и впоследствии. Казалось бы, ситуация одна и та же, но разные направления человеческой воли. В первом случае это попытка договориться с Богом: «Господи, я сейчас не грешу, причащусь, а потом буду грешить, но Ты на какое-то время обо мне забудь». А во втором случае это снисхождение к немощи и помощь, чтобы согрешающему в конце концов достало сил не грешить.
И священнику порой приходится говорить: «Я тебя в твоем нынешнем состоянии допускаю до Причастия, – хотя и не должен был бы, – если ты обещаешь держаться изо всех сил. И знай, что если ты не удержишься, упадешь, то и я буду отвечать за это. Так что ты меня не подводи, пожалуйста». Да, иногда и так нужно сказать, чтобы воздействовать на то, что в человеческой душе способно откликнуться, и хотя бы таким образом, как бы сняв часть тяжести с кающегося и взяв ее на себя, его поддержать. И нередко это помогает.
Но если мы видим, что тот, кому мы поверили, раз за разом подводит нас в этом отношении, то оснований для подобной мягкости остается гораздо меньше.
Что происходит на исповеди? Мы говорим о самом страшном, самом тяжелом и темном, что есть в нашей жизни: о наших грехах и страстях, фактически о наших преступлениях. И очень важно, чтобы после этого произошел разворот от той тьмы, в которой мы пребывали и которую оплакали, к свету, к Богу. Мы должны отойти от исповеди, не глядя на свои грехи, но взирая к Богу. Радость должна войти в наше сердце. Мне кажется, нужно, чтобы священник в этом помогал, особенно тем, кто давно или никогда не был в храме и наконец каким-то чудом пришел. А христианин более опытный должен заботиться о том, чтобы этот разворот совершать самостоятельно.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет, что ничто столь не действенно в борьбе со страстями в период новоначалия, как частая исповедь. И жизнь свидетельствует, что это действительно так. Когда у человека еще мало собственного опыта, нет навыка в преодолении страстей, для него исповедь у священника, который может его и утешить, и наставить, приносит очень большую пользу. Особенно если она совершается с ощущением собственной немощи и неспособности исправиться без помощи Божией.
Часть 7
О важном и второстепенном
Что такое откровение помыслов? В древней монашеской жизни бывало так: послушник жил в обители, при старце, и имел возможность в любое время дня открыть ему то, что он думает (либо, как это делалось когда-то в Оптиной пустыни, утром и вечером, или только вечером, или трижды в течение дня). Как только ученика начинал беспокоить какой-то помысл, он тут же шел к старцу и говорил ему об этом. Старец объяснял, что с этим помыслом делать, и ученик успокаивался.
Таким образом, инок достаточно быстро становился искусным, потому что не тратил огромную энергию и время на пустопорожнюю борьбу, не проходил лишнее расстояние, делая ненужные повороты. Его путь был прямым, а возрастание – быстрым. Так опыт передавался от старца к ученику.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу