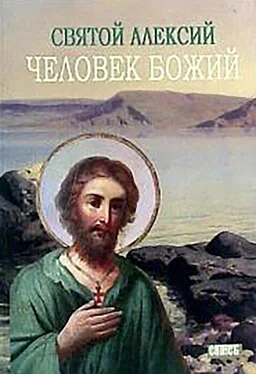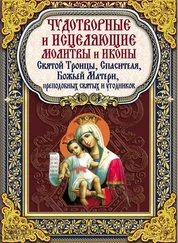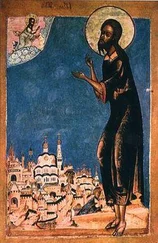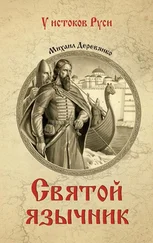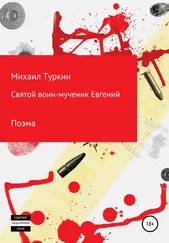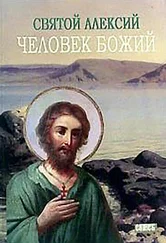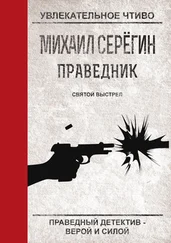Между тем юная Марцелла развивалась и, по словам современников, становилась решительно первой красавицей в Риме. Из послушания матери, не имевшей других детей и вполне посвятившей себя воспитанию дочери, она вышла замуж, но через семь месяцев овдовела, и тогда-то вполне раскрылся ее характер и стремления. Мать настойчиво желала, чтобы она во второй раз вышла замуж. Ей представлялись блестящие партии. Между всеми искателями ее руки более всех выдавался сенатор Цереалис. Это был один из самых знатных людей империи, несколько раз носил консульский сан и был в близких связях с императорским домом по сестре своей Галле, которая была невесткою Константина Великого и матерью Галла. У него было громадное состояние, которое он все предоставлял в распоряжение Марцеллы.
– Если бы я собиралась вступить во второй брак, я искала бы себе мужа, а не его богатства, – ответила Марцелла.
В свете все порицали Марцеллу и говорили с раздражением, что она попала в сети, расставленные ей духовенством. Мать также страшно раздражена была против дочери и не хотела ее видеть. Чтобы хоть отчасти успокоить раздраженную родню, Марцелла объявила, что она отказывается от принадлежащей ей части громадного наследства в пользу родных, которые могут продолжить их род. Она оставила все свои драгоценности, камни, богатую мебель, золотые убранства, даже свою печать, наперекор моде отказалась от белил и румян, шелковых материй и стала носить самую простую одежду всегда темного цвета. «Она похоронила себя», – сказал про нее один современник. Марцелла надеялась, по крайней мере, что ее, после всех этих перемен, оставят в покое. Не тут-то было! Не было такой нелепости, низкой сплетни, которую бы не выдумывали про нее и которой все верили. Все это повергало ее в глубокую печаль. Она решилась наконец окончательно порвать все узы, сколько-нибудь привязывавшие ее к свету. В одном из предместий Рима она купила себе небольшой дом, окруженный большим тенистым садом; из дома сделала она себе келью, из сада – пустыню, и там, вдали от шумного и завистливого света, она проводила все дни в глубоком уединении, в молитве, в созерцании и подвигах. В столицу она появлялась только в известные дни и часы в сопровождении своей матери для поклонения гробам свв. Апостолов. Когда несколько умолкли все толки, возбужденные в Риме отказом ее от замужества, и свет оставил ее в покое, она переселилась на Авентин, где ей принадлежал родовой дворец. Она назначила обширную часть дворца для благочестивых собраний и устроила там церковь. И вот, в самом средоточии Рима, явился первый римский монастырь – монастырь в мраморных и украшенных золотом чертогах. Под духовным руководством Марцеллы на Авентине образовалось целое общество богатых и влиятельных женщин, посвятивших себя Богу и делам благочестия. В этом монастыре не было, однако, никакого определенного устава. Обыкновенно там собирались петь псалмы, совещаться о делах благотворительности и изучать Священное Писание. Просвещение, которое никогда не было в большой моде на Западе, особенно входило в круг занятий на Авентине. Изучали прилежно еврейский и греческий языки, чтобы ближе знакомиться с текстом Св. Писания.
Как трудно было ожидать, чтобы противодействие растленному духу времени в Риме началось именно в самых недрах высшей аристократии, чтобы знак к этому противодействию подан был именно женщинами, которые с такой пламенной ревностью устремились на этот путь и увлекли за собой патрициев! В христианской Церкви началось могучее движение, которое еще раз с поразительной силой доказало неиссякаемый источник нравственного возрождения, заключающийся в христианстве.
Излишне было бы и говорить о том, что семья Евфимиана находилась также под сильнейшим воздействием плодотворного духа, повеявшего с далекого Востока.
Повеявший с Востока дух нравственного возрождения коснулся не одних холмов Вечного города. Жизнеописания восточных отшельников распространялись во множестве экземпляров на Западе и всюду читались с величайшим восторгом. Мрачные и бесплодные острова Тосканского моря, ущелья Аппенин и Альпов, даже острова далекой Британии озарились лучами взошедшего с Востока света; всюду появились анахореты, одетые наподобие великих подвижников Египта. Не довольствуясь рассказами и описаниями, благочестивые люди Запада предпринимали путешествия на Восток и, посетив священные местности Палестины, спешили в пустыни Фивские, Нитрийские и Халкидские, эти знаменитые рассадники восточного монашества. Там молодые люди, иногда знатных римских фамилий, стремились поступить под руководство какого-нибудь знаменитого аввы, чтобы научиться подвигам аскетизма. Оттуда они писали своим родственникам и знакомым письма о необыкновенной жизни подвижников, о чудесах, совершаемых ими, об их неотразимом влиянии на общество. Более всего интересовались этими письмами среди благочестивого авентинского общества. Но ничьи послания не перечитывались с таким восторженным удивлением, как письма молодого далмата к своему другу. Этот далмат был не кто иной, как пламенный Иероним, а его друг – Илиодор, впоследствии епископ Альтинский. Илиодор вместе с Иеронимом удалился в страшную Халкидскую пустыню в Сирии, но не мог там остаться долгое время. Дорогие семейные узы, престарелая мать, любимая сестра, маленький племянник, даже старые служители, ходившие за ним в детстве, – все соединили свои просьбы, чтобы вернуть его на родину. Расставаясь с Иеронимом, он сказал ему на прощание: «Пиши мне из твоей пустыни».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу