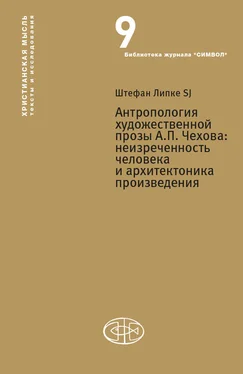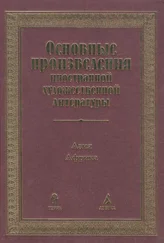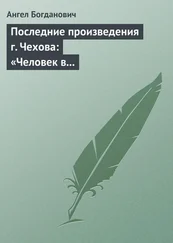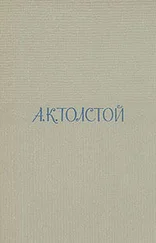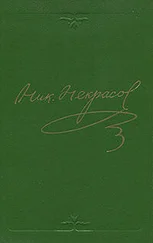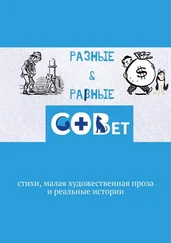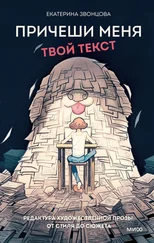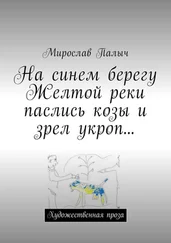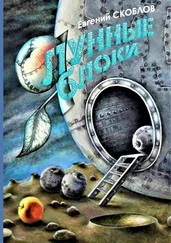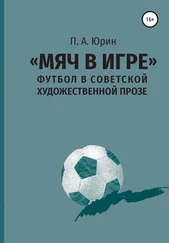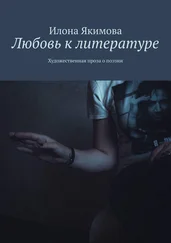Значимое место в художественной антропологии Чехова занимает атмосфера, т. е. взаимоотношения между человеком, его внутренними переживаниями и окружающей его средой. Н.М. Фортунатов, изучая чеховские пейзажи, считает атмосферу «важнейшим элементом формообразования» [68] Фортунатов Н.М. Архитектоника Чеховской новеллы. Горький, 1974. С. 7.
. В данной работе мы включаем в анализ описание самого человека (одежда, мимика и т. д.) как характеристику состояния, выражающего его отношения с миром. Здесь также возникает вопрос о смыслах и значениях взаимосвязи человека с животным и растительным миром в творчестве Чехова [69] Freise M. Op. cit. S. 182–183.
. Наконец, важна тема красоты, присутствия в человеке эстетического начала [70] Зайцева Т.Б. Указ. соч. С. 4.
в двух направлениях: воспринимает ли человек красоту и создает ли он ее вокруг себя.
Нарративное пространство воспринимается как «протяженность диегетического мира, самим актом рассказывания отмежеванная от пространства физического» [71] Тюпа В.И. Введение в сравнительную нарратологию: научно-учебное пособие для самостоятельной исследовательской работы. М., 2016. С. 38.
. Тем самым описание пространство вносит вклад в антропологию, как в описание героя, двигающегося в нем, так и в восприятие произведения читателем. При этом в контексте настоящей работы принципиальную роль играют категории «узости» и «широты», тщательно изученные Н.Е. Разумовой [72] Разумова Н.Е. Творчество А.П. Чехова в аспекте пространства. Томск, 2001. С. 53—146; 274–304.
. Важен также вопрос Н.М. Фортунатова и А.Г. Масловой о связи пространственной организации произведения с темой человеческой свободы [73] Маслова А.Г. Степь как феномен русского сознания в творчестве А.П. Чехова и Б.Л. Пастернака // Философия А.П. Чехова. Иркутск, 2016. С. 199–200; Фортунатов Н.М. Указ. соч. С. 49–50.
.
Согласно М. Фрайзе, важнейшую роль для чеховской антропологии играют интертекстуальные связи, т. е. самовыражение человека, ориентированное на «символический багаж» читателя [74] Freise M. Op. cit. S. 14.
, которое «повышает семантическую слитность текста» [75] Гаспаров Б.М. Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. М., 1996. С. 331; Степанов А.Д. Проблемы… С. 178.
. Данный уровень создает «экзистенциальную и через это – также культурную идентичность человека» [76] Freise M. Op. cit. S. 284–286; Maeterlinck M. Le trésor des humbles. Paris, 1896. P. 123–124.
. Опираясь на М.М. Вахтина и Ю. Кристеву, мы можем сказать, что благодаря связи произведения с другими текстами возникает бесконечность диалога, в котором автор не является высшей инстанцией, а выступает одним из участников. Данные интертекстуальные связи, с одной стороны, обогащают человеческое сознание, особенно в случае связей произведения с текстами, передаваемыми из поколения в поколение, получившими множество коннотаций и вошедшими в подсознательное, например, с произведениями фольклора и священными текстами [77] Kristeva J. Some principles for the humanism of the twenty-first century [digital resource]. URL: http://www.kristeva.fr/assisi2011_en.html (дата обращения: 17.12.2018 г.).
. С другой стороны, как подчеркивает Ю.В. Шатин, интертекстуальные связи выполняют «критическую функцию»: с их помощью литература разоблачает обман человеческого разума языком [78] Шатин Ю.В. Указ. соч. С. 132–133.
, т. к. бесконечность диалога текстов друг с другом мешает человеку найти в одном из них окончательные ответы на свои вопросы.
На всех указанных здесь художественных уровнях Чехов подчеркивает приоритет образа человека над любыми «специальными» вопросами [79] О концепте «специального»: Катаев В.Б. Проза… С. 143.
и поэтому изучает, способен ли человек сделать выбор в пользу своей неизреченной индивидуальности и осуществить его. Признание в том, что «никто не знает настоящей правды» (7, 446), вырастает в образ личности, превосходящей любые определения.
При этом мы исходим из того, что по доминирующим формам и позициям можно различить пять периодов в творчестве писателя: период ранних юмористических рассказов (до 1885 г.), экспериментирования с полемикой (1886–1889 гг.), пост-сахалинский период (1891–1894 гг.), период социальной критики (1895–1899 гг.), поздний период (с 1899 г.). Произведения будут рассматриваться именно в свете данной периодизации. Мы обращаемся к вопросу о том, каким образом архитектоника чеховских произведений в каждый из этих периодов указывает на заявленную нами неизреченность индивида.
1. Ранние юмористические рассказы А. П. Чехова (1883–1885): человек как роль и как личность
Читать дальше