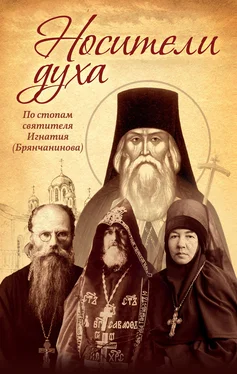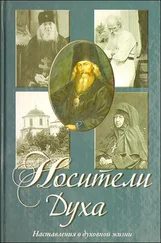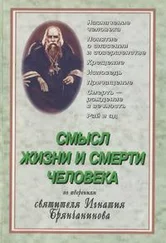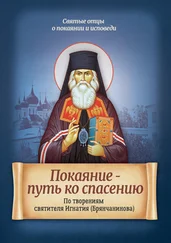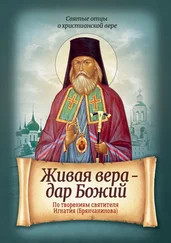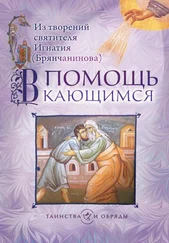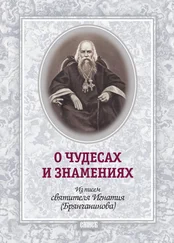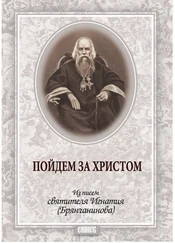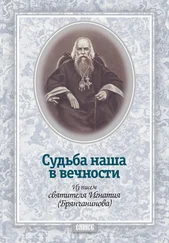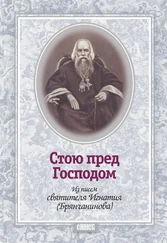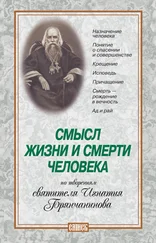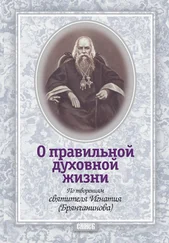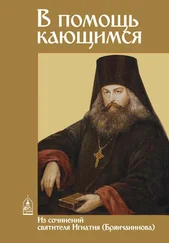Но вскоре император Николай Iвызывает отца Игнатия в Петербург и при личной аудиенции объявляет ему: «Ты у меня в долгу за воспитание, которое я тебе дал, и за мою любовь к тебе. Ты не хотел служить мне там, где я предполагал тебя поставить, избрал по своему произволу путь – на нем ты и уплати мне долг твой. Я тебе даю Сергиеву пустынь, хочу, чтобы ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который в глазах столицы был бы образцом монастырей». Так он оказался настоятелем столичного монастыря. 1 января 1834 года отца Игнатия возвели в сан архимандрита. Через 4 года его назначают благочинным всех монастырей Петербургской епархии.
Имя архимандрита Игнатия было широко известно. Его хорошо знали и ценили митрополит Московский Филарет (Дроздов), митрополит Киевский Филарет (Амфитеатров), другие архипастыри Церкви, настоятели и насельники многих монастырей, духовные и светские лица, ищущие духовной жизни. Знакомства с архимандритом Игнатием, его советов и наставлений искали многие известные люди России: М. И. Глинка, К. П. Брюллов, князья А. Н. Голицын и А. М. Горчаков, княгиня Орлова-Чесменская, герой Крымской войны флотоводец адмирал Нахимов и др. О нем в своем рассказе «Инженеры бессребреники» писал Н. С. Лесков.
27 октября 1857 г. архимандрит Игнатий был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского. При наречении он раскрыл стремления своей души: «Во дни юности своей я стремился в глубокие пустыни, но я вовсе не мыслил о служении Церкви в каком бы то ни было сане священства. Быть епископом своего сердца и приносить в жертву Христу помышления и чувствования, освященные Духом, – вот высота, к которой привлекались мои взоры».
В 1861 году свт. Игнатий уходит на покой в Николо-Бабаевский монастырь. Здесь он внимательно пересмотрел свои сочинения, написал новые. Множество его назидательных писем относится к этому периоду
30 апреля (по ст. стилю – 13 мая по н. ст.) 1867 года, в Неделю жен-мироносиц, келейник застал святителя лежащим на постели с раскрытым канонником. Смерть застала его ум занятым молитвою. Но его служение не прекратилось и по смерти.
Творения свт. Игнатия уже при его жизни получили благодарное признание у ищущих духовной жизни.
Многочисленные издания творений Владыки Игнатия быстро расходились по обителям и частным лицам по всей Русской земле. Это продолжается до настоящего времени. Даже на далеком Афоне творения святителя получили известность и благоговейное одобрение.
Как оценивали святителя Игнатия и его аскетическое наследие наши святые и подвижники 19–20 вв.?
Преподобный МакарийОптинский (|1860) сравнивает святителя Игнатия с великим подвижником древней Церкви Арсением Великим. «Был Великий Арсений, и у нас в России был бы свой Великий Арсений , если бы он пошел другой дорогой. Это – Игнатий (Брянчанинов). Это был великий ум » [7] Преподобный Никон Оптинский (Беляев). Дневники 1907–1910. Запись 4 мая 1908 г.
. Редкая оценка из уст преподобного!
Иногда слова «если бы он пошел другой дорогой» объясняют, будто прп. Макарий считал, что молодой монах изменил избранному пути жизни, своему старцу Льву и пошел другой дорогой. Однако это не только противоречит высокой его оценке личности свт. Игнатия, но и совершенно не соответствует действительности. В данном случае эти слова совсем не связаны с именем старца Льва, а речь идет о назначении игумена Игнатия настоятелем в Сергиеву пустынь близ Петербурга. Прп. Макарий был осведомлен и вполне понимал, что это назначение произошло совсем не по его воле, но по приказу императора, когда он совершенно неожиданно вместо желаемого им уединения, затвора, жизни созерцательной [8] В письме к архиепископу Илиодору он писал: «Я всегда желал глубокого уединения… С тою целью оставил я мир, с этой постоянною целью совершаю двадцатый год в монастыре».
(на котором был бы Великим Арсением) был снят с этого пути и поставлен на другую дорогу – руководства столичным монастырем.
О том, насколько его влекла другая дорога, упоминаемая прп. Макарием, с полной очевидностью открывается из откровенных признаний самого свт. Игнатия.
О своем настоятельстве в столичной Сергиевой обители он писал: «Ни к чему в ней не прилепилось сердце, ничего мне в ней не нравится. Я занимаюсь устроением ее как обязанностью, принуждаю себя любить Сергиеву пустынь. Обитель эта совершенно не соответствует потребностям монашеской жизни. Одного прошу, чтоб развязали меня с Сергиевой пустынью. Всякое решение Святейшего Синода приму с благодарностью». В другом письме он открывает свою душу: « Я всегда желал глубокого уединения… С тою целью оставил я мир, с этой постоянною целью совершаю двадцатый год в монастыре».
Читать дальше