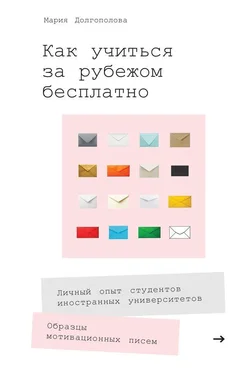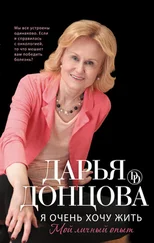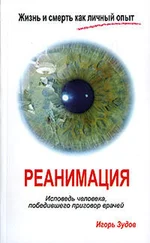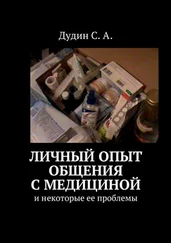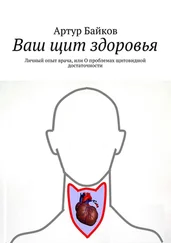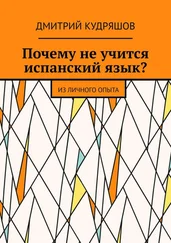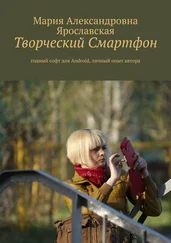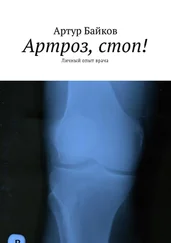Сегодня существует две основные модели финансирования высшего образования.Во-первых, прямое государственное финансирование – модель, распространенная в Европе и основная для России. Вузы существуют за счет налоговых поступлений и других источников государственного бюджета, а студенты платят небольшие организационные взносы или не платят ничего. Во-вторых, финансирование из личных средств студентов и их семей – институты в таком случае большую часть своих доходов получают за счет платы за обучение. Эта модель широко распространена в вузах США. Отдельно взятое учебное заведение может совмещать оба подхода, а также задействовать другие источники финансирования – например, меценатские пожертвования или предоставление различных коммерческих услуг (вуз может организовать дополнительные платные программы языковых курсов или переквалификации, может сдавать свои площади в аренду или зарабатывать на печати учебных пособий).
Но какой из этих подходов эффективнее?Чтобы понять, какая из систем лучше для разных потребителей образовательных услуг – студентов, работодателей и государства, – Николас Барр еще в 1992 г. провел исследование «Высшее образование: способы и источники финансирования» [9] Nicholas Barr, “Alternative Funding Recources for Higher Education,” Economic Journal 103 (1993): 718–28.
, в котором изучил опыт развитых стран. Он попытался найти ответы на два вопроса: можно ли спрогнозировать, сколько каких специалистов может понадобиться стране в будущем для ее развития, и стоит ли тратить деньги на прогнозы такого уровня, и если да, то сколько.
Возможность планировать необходимое количество специалистов позволила бы сделать систему максимально эффективной.Все выпускники гарантированно находили бы работу по специальности, работодатели не испытывали бы дефицита с сотрудниками определенных профессий и не были бы вынуждены «переплачивать», а государству оставалось бы только радоваться идеальной системе, стимулирующей экономический рост. На деле же все попытки развитых стран организовать такую систему проваливались – планирующим органам необходимо обрабатывать огромные массивы данных по всем специальностям и регионам, поиск и обработка такого количества информации требует огромных ресурсов, а многие данные нельзя формализовать и, соответственно, однозначно интерпретировать. К тому же рынок постоянно находится в движении, такое исследование нельзя провести раз и навсегда – это нужно делать постоянно. Барр приводит пример: «Исследования, проведенные в 1970–1980-х гг., показывают, что планировать состав трудовых ресурсов практически невозможно. ‹…› В 1980-е гг. имела место почти анекдотическая ситуация. Тогда самым большим спросом пользовались выпускники философских факультетов, так как одним из ведущих направлений в информационных технологиях была “нечеткая логика”. В то же время факультеты философии в Великобритании были под угрозой, которая исходила от планирующего органа». Таким образом, мы видим, что государства, финансирующие высшее образование, формально влияют на количество мест на разных специальностях, но кажется, что это никак не пересекается с реальностью – тем, какие специалисты действительно нужны рынку. При этом нельзя гарантировать, что каждый абитуриент будет принимать решение исходя из результатов подобных исследований. Учитывая все это, оказалось, что прямые потребители образовательных услуг – то есть сами студенты – более эффективный инструмент распределения. По сути, в один прекрасный момент перед человеком встает задача собрать и проанализировать ограниченный объем данных: изучить рынок образования и трудоустройства по конкретным специальностям в отдельно взятом регионе и принять решение – где и какую профессию изучать.
Стоит ли тогда вообще государству инвестировать деньги в образование?И какова доходность у такого вложения? Прямой экономический эффект в такой сложно устроенной системе просчитать невозможно, и остается полагаться только на побочные явления. Например, принято считать, что получение образования повышает будущий заработок студента и соответственно увеличивает налоговые выплаты, которые студент осуществит в будущем. Но насколько именно образование влияет на увеличение доходов? И где гарантия того, что, получив образование, выпускник найдет работу, не уедет из страны или не посвятит себя семье? Кроме этого, есть факторы, которые уже совсем сложно измерить, – это социальное благополучие и, возможно, более высокий уровень счастья. Что гипотетически тоже может быть выгодно государству, правда, традиционно проходит по другой статье расходов – «социальная политика».
Читать дальше