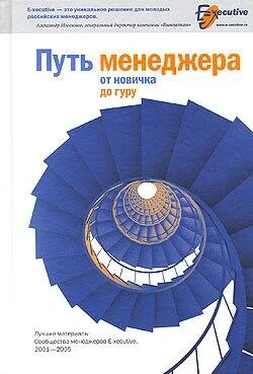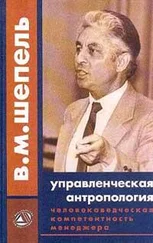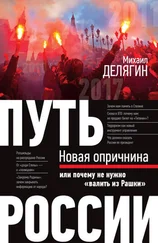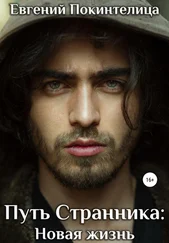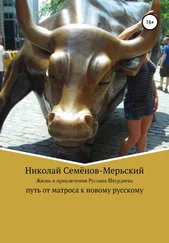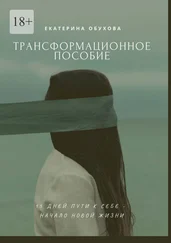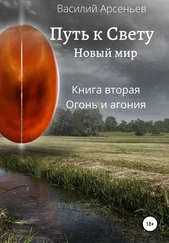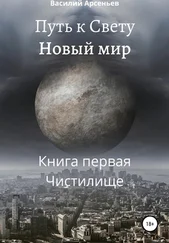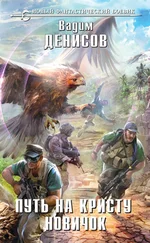С другой стороны, капитал сейчас становится все более безличным. Владельцы многих крупных компаний – организации вроде пенсионных фондов, у которых нет конкретного собственника. Естественно, менеджмент использует эту ситуацию, присваивая себе все больше рычагов управления. Однако, оставляя все эти процессы в стороне, я уверен, что в будущем власть перейдет от владельцев финансового капитала к владельцам капитала интеллектуального.
Вопрос этот связан с самим сохранением института, который называется «ограниченная компания (корпорация)». Вспомните, что этот институт появился в те годы, когда самым ценным и редким ресурсом стал капитал (в XIX веке, в годы промышленного переворота). До этой эпохи самым ценным ресурсом была земля. Но в XIX веке в мире появилась огромная потребность в инвестициях: для постройки фабрик, покупки машин. Тогда и появился институт «ограниченной компании». Инвестор рисковал только вложенными деньгами, а не всем своим имуществом. Таким образом, была создана система, которая побуждала людей к риску. При этом риск для индивидуумов был минимизирован, однако риск для общества стал, наоборот, максимальным.
Теперь, если самым редким и ценным ресурсом становится уже не капитал, а знания, мы, возможно, должны будем поставить под вопрос и институт «ограниченной компании». Что может прийти ей на смену? Здесь, я думаю, интересным примером может служить Linux. Linux – это самоорганизующаяся система, которая, по общему мнению, служит хорошей альтернативой традиционной иерархичной коммерческой организации. Для меня еще более важно, что Linux институционен, но при этом не организационен. Никто не владеет Linux. Или можно сказать, что владение им осуществляется с периферии в центр, а не из центра на периферию.
У меня пока нет ответа на вопрос, как будут выглядеть экономические институты будущего. Это – тема моего нынешнего исследования. Я думаю, что, если мы будем ставить эту проблему в рамках традиционной правовой схемы, мы можем прийти к неверным выводам. Все современные правовые понятия так или иначе связаны с понятием собственности. Наше понятие права собственности – в основе своей вещное. Традиционно объектом собственности были вещи, или капитал. Если у вас в собственности машина, то чем больше ее используют, тем больше она изнашивается, тем меньше ее стоимость – и так происходит с любой вещью. Однако если мы говорим о переходе к экономике знания, типичная ситуация будет совершенно другой. Чем больше вы используете знание, тем оно ценнее. Возможно, пришло время посмотреть на проблему экономических институтов глазами, свободными от пелены традиционного права. Впрочем, поскольку у меня пока нет ответов на поставленные вопросы, я вынужден остановиться, чтобы не сказать что-нибудь непродуманное.
E-xecutive: Что в традиционной теории менеджмента необходимо сохранить и от чего надо отказаться?
Й.Р.:Я думаю, мы должны не отказываться от чего-то, а кое-что добавить. Сегодня мы уже знаем, как создавать организации, которые могут предельно эффективно выполнять свою функцию, мы очень хорошо научились эксплуатировать ресурсы. Теперь надо научиться создавать организации, которые будут постоянно заново изобретать себя, максимизируя свой творческий потенциал. В какой-то момент мы поймем, что ценности организации-эксплуататора в чем-то противоречат ценностям организации, постоянно заново изобретающей себя. Ведь самое трудное – не изобрести стратегию, а создать организацию, способную постоянно производить новые удачные стратегии.
E-xecutive: А как вы вообще относитесь к понятию стратегии, особенно в интерпретации Майкла Портера? Совместимо ли это понятие с идеей о «постоянно заново изобретающей себя организации»?
Й.Р.:Мне нравятся идеи Майкла Портера. Я думаю, что основной «конек» Портера – в оформлении идей. Многое из того, что он говорит, – это, в сущности, вполне традиционные макроэкономические схемы, но ему удалось так их оформить, что они стали понятны широкой неакадемической публике. Я считаю, что мы в академических кругах вообще недооцениваем важность доведения идей до публики, поэтому можно только поблагодарить Портера за это.
Однако мои возражения теории Портера начинаются с того, что, как только организация определяет свои конкурентные преимущества, она как бы принимает решение участвовать в том же забеге, что и все ее конкуренты. В отличие от Портера я думаю, что самое главное – не быть лучше или дешевле (а это, по сути, две основные стратегии Портера), но быть иным, не боясь вести бизнес совсем по-другому. Я называю это аконкурентными стратегиями (что не тождественно неконкурентным). Существует огромное количество исследований – на уровне индивидуумов, регионов, компаний, – которые показывают, что вы можете добиться успеха только в тех сферах, где у вас есть преимущество с самого начала. Это и есть аконкурентная стратегия – сосредоточиться на собственных уникальных преимуществах, позволяющих перенести соревнование на совершенно новое поле, вместо того чтобы играть с конкурентами по старым правилам.
Читать дальше