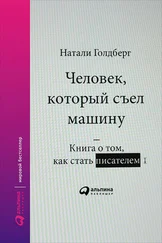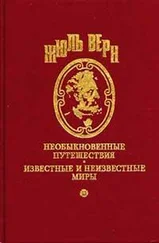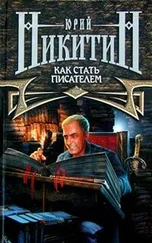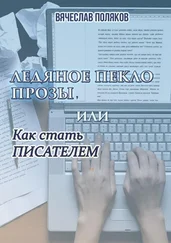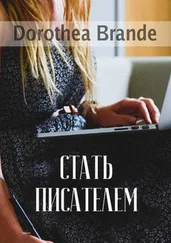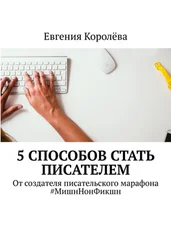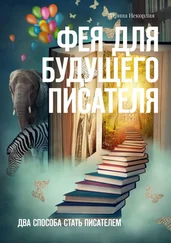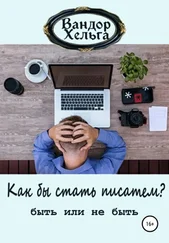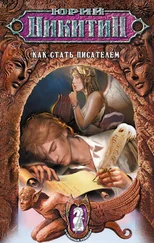Замечательным мастером литературного шока был Достоевский. Не случайно он до сих пор один из самых читаемых писателей в мире. Достоевский не писал пьес, и тем не менее его можно причислить к самым популярным драматургам планеты: все его основные вещи многократно инсценированы и экранизированы. Вот уж кто умел «не отпускать» читателя! В лучших его романах каждые три–четыре страницы сюжет делает совершенно неожиданный зигзаг.
Проза Достоевского насквозь драматургична, он блестяще владел всеми приемами, позволяющими создавать и поддерживать сценическое напряжение. Его герои постоянно думают одно, а говорят другое. Если персонаж входит в эпизод трусом, он выходит из него героем, входит уверенным в себе, выходит растерянным. Двое сидят и беседуют, появляется третий — и это становится шоком, круто меняющим разговор… В «Идиоте», «Преступлении и наказании», «Братьях Карамазовых» один шок следует за другим — сложнейшая философско–психологическая проза читается, как детектив.
Чем многочисленней и острей углы сюжета, чем изломанней его график, тем больше захватывает действие. Самая знаменитая, самая глубокая и загадочная пьеса на свете, «Гамлет», вся состоит из шоковых сцен. Явление призрака, то ли мнимое, то ли реальное безумие принца, жестокое объяснение с матерью, отношения с Офелией, которые очень трудно определить словами, случайное убийство ее отца, предательство друзей, охота на истину с помощью заезжих комедиантов, непристойная песенка потерявшей рассудок Офелии и ее гибель, поединок с Лаэртом, смерть матери, убийство Клавдия и, наконец, смерть героя. А кроме того — кроме того монологи Гамлета, каждый из которых сам по себе шок…
Сильнейшим эмоциональным ударом может стать и неожиданный поворот в психологии героя.
Помню, в начале семидесятых на семинаре молодых кинодраматургов нам показали французский фильм «Не убий», если не ошибаюсь, режиссера Отан–Лара. Картину эту очень хвалили в советской печати, но никогда не выпускали на открытый экран. Дело в том, что речь в ней шла о молодом солдате, который, приняв всерьез одну из главных христианских заповедей, не хочет брать в руки оружие. Ему грозит многолетнее тюремное заключение, но парень, кстати, спокойный и вежливый, не идет ни на какие компромиссы. «Не убий», и все! Понятно, почему столь прогрессивную картину не показывали у нас: власти опасались, что гуманный почин французского солдата найдет понимание и поддержку у советских военнослужащих…
Мы, молодые атеисты, сочувственно и снисходительно смотрели на мытарства религиозного француза, втайне радуясь, что наши убеждения не ставят нас перед столь опасным выбором. А на экране — суд, парня защищает молодой священник, ссылается на Евангелие. Дискуссия о проблемах веры… И вдруг — внезапный поворот действия, мгновенно убирающий огромную дистанцию между экраном и залом: парень отказывается от защиты священника. «Религия тут не при чем. Я просто не хочу убивать! Если Бог тоже против убийства, тем лучше для Бога»…
Оказалось, фильм про нас, и проблема наша, и решать ее нам.
Этот шок я помню до сих пор…
В рассказе или романе, в пьесе или очерке путь от первой строки до последней ведет от шока к шоку.
Час девятый. «Не слышу аплодисментов»
В середине семидесятых, в Питере, в литературной части Пушкинского театра — тесноватой комнатушке под крышей прославленной «Александринки» — я читал пьесу «Орфей» маленькой, но предельно взыскательной аудитории — режиссеру Ростиславу Горяеву и заведующей литературной частью Вере Викторовне Ивановой. Вера Викторовна была поразительно талантливым завлитом, ее замечания отличались снайперской точностью, в чем мне в тот вечер предстояло в очередной раз убедиться.
Я прочитал первый акт, реакция была хорошая, квалифицированные слушатели благожелательно кивали. Прочитал второй. Режиссер вновь одобрил, сказав, что можно хоть завтра начинать репетиции. Я поднял взгляд на Веру Викторовну. И вдруг, обращаясь не ко мне, а к Горяеву, она произнесла:
— Слава, не слышу аплодисментов!
Такое критическое замечание стоит десятка хвалебных рецензий. Я задохнулся от восторга и тут же на уголке стола написал новый финал — на это ушло минут двадцать.
Судьба у пьесы получилась сложная: несколько лет ее запрещали, потом она пошла во множестве театров, от Таллинна до Владивостока. Многое из той эпопеи я забыл — но потрясающую фразу Веры Викторовны запомнил, наверное, на всю жизнь. С тех пор, заканчивая новую вещь, будь то статья или повесть, я прислушиваюсь: звучат или нет?
Читать дальше