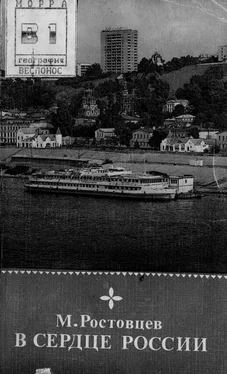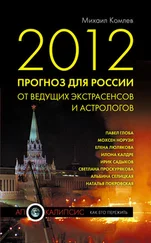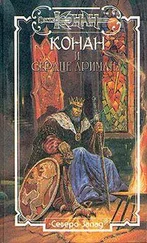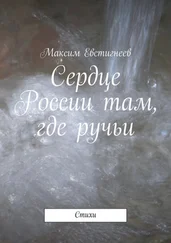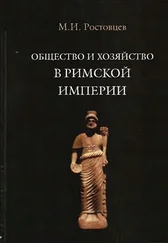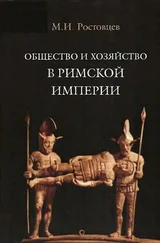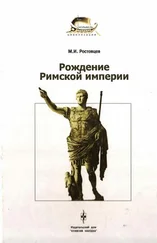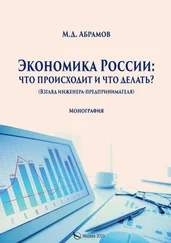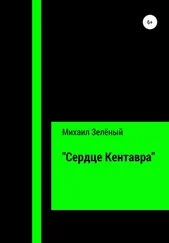В этот полдень я долго бродил в березовой роще вблизи Болдина с названием Лучинник. Было тихо. Протенькает синица, прыгая с ветки на ветку, да прострекочет сойка, извещая о непрошеных гостях. И снова тишина.
Березы стояли в пышном наряде. Высокие с гладкой, белой, как только что выпавший снег, корой, горели под лучами солнца, словно холодные костры. Куда там костры — ярче! Днем уголь костра мало заметен, а березы, залитые солнцем, горели разноцветным пламенем: желтым, багряным, золотым… Ни росные капли, ни проливные дожди, казалось, не могли погасить неугасимое зарево березового пожара. А когда нечаянно появлялся ветерок, роща переговаривалась с ним, шумела.
Смотрю на эту красоту, и меня пронизывает мысль: «А ведь я где-то видел это!» Да, конечно, видел — в Третьяковской галерее на полотне И. И. Левитана. Так оно и называется — «Березовая роща». Великий художник нарисовал ее на Волге, в Плесе, с изумрудной травой и стволами, чуть розовеющими на прямом свету. Это одна из лучших его картин. Но в Лучиннике я ощущал ее живую красоту, соединенную с образом А. С. Пушкина. И само название рощи, по преданию, связано с поэтом. Однажды в роще был пойман крестьянин, срубивший березу. Виновного привели в контору к управляющему. Случайно вошел Пушкин. Узнав, что провинившемуся угрожает наказание — порка розгами, поэт спросил крепостного: «Зачем же ты испортил березу?» «Виноват, — со слезами возмолился мужик, — во тьме сидим, барин, лучины нету. Вот я и срубил березку». Пушкин отменил наказание и шутя сказал: «Хотел на всю жизнь запастись лучинами? Не дело это рубить молодую рощу, сейчас она настоящий лучинник, только на лучину годится. Подрастет, вашим же детям послужит на пользу и радость». Так роща с тех пор и зовется — Лучинник. Пушкин любил эту рощу. Во время приездов в Болдино она была местом его прогулок, отдыха и труда. В погожее утро верхом на коне он приезжал сюда. Медленно поднимался по тропе, шел по мягко шуршащей бронзовой листве меж белеющих стволов березок. Здесь под их сенью зрели его творческие планы, рисовались черты любимых героев. Отсюда через сквозные просветы меж подростковыми деревцами, освещенными глянцевым блеском осеннего солнца, он видел убранные поля на плавно поднимающихся холмах, убогую деревеньку, медленно крутящиеся крылья ветряных мельниц. Здесь, в уединении и тиши, он, возможно, снова и снова перебирал в памяти мысли о прошедшей молодости с ее порывами, увлечениями и страстями. «Безумных лет угасшее веселье мне тяжело, как смутное похмелье». В болдинском одиночестве Пушкина была тоска и в то же время одержимость творчеством.
Я стою, прислонившись к гладкоствольной березке, шелковистая кора ее приятно холодна. Чудо это объясняется просто, если вспомнить, что белый цвет хорошо отражает солнечные лучи. Белый цвет коры у березы не для одной красоты. Весной белят стволы фруктовых Деревьев, чтобы уберечь их от солнечных ожогов. Вот и березу цвет коры предохраняет от ожога, ведь кора у нее тонкая, не то что у дуба или сосны, которым не опасно горячее солнце.
Береза! Березка! Самое милое русское дерево. О ней поется в песнях, говорится в сказках. Неизъяснимое чувство восторга охватывает, когда глядишь на березу. Сколько в ней мягкого света и как прекрасно это высокое и стройное дерево с перламутровой корой! Олицетворение красоты и добра. Береза — символ поэтического очарования наших лесов. Это зеленая краса милых родных мест. Как дома без окон, как ребенка без улыбки, так родной земли нельзя представить себе без белой березы.
Сколько красоты и яркости принесла береза на полотна Левитана, Поленова, Куинджи, Нестерова! Когда великий русский композитор М. И. Глинка возвращался на родину, то, переехав границу, он остановил свой экипаж, вышел на дорогу и низко поклонился белой березке, как символу России. А. С. Пушкин после путешествия по Крыму, в декабре 1824 года, писал своему другу поэту Дельвигу: «… мы переехали горы… и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза. Сердце мое сжалось: я начал тосковать о милом полудне…»
С древних времен береза вошла в жизнь русского народа. Без этого дерева трудно представить жизнь крестьянина. На Руси березу называли деревом четырех дел: первое дело — мир освещать, второе — крик утешать, третье — чистоту соблюдать, четвертое дело— больных исцелять. А это означало, что когда-то в деревнях березовые лучины, не дающие копоти, были единственным источником света. Береза давала деготь, без которого не могла обойтись ни одна телега. Береза лечила больных целебными почками, соками. Когда крестьянин простужался, занемогал, лучшим средством помощи ему был березовый веник в парной бане: разгонит кровь и как рукой снимает всякую хворь. Березовый веник был еще стражем чистоты в каждом деревенском доме. Самые спорые и жаркие дрова, сани, топорища, лыжи, пастуший рожок, бурачок для квасу— все это береза. Из березы люди издавна делали посуду, на тонких ее свитках— бересте писали наши предки. Любопытно, что в народном поэтическом творчестве почитаемая славянами береза выступает всегда положительным героем — то хранительницей народных кладов, то заколдованной красавицей, доброй волшебницей или мудрой крестьянской дочкой, побеждающей в поединке со злыми силами.
Читать дальше